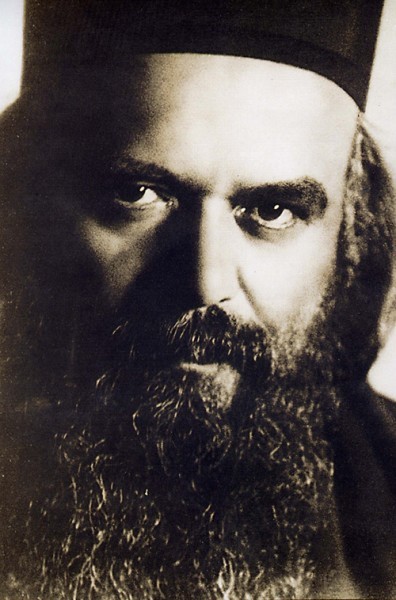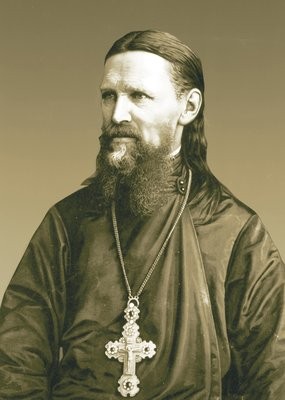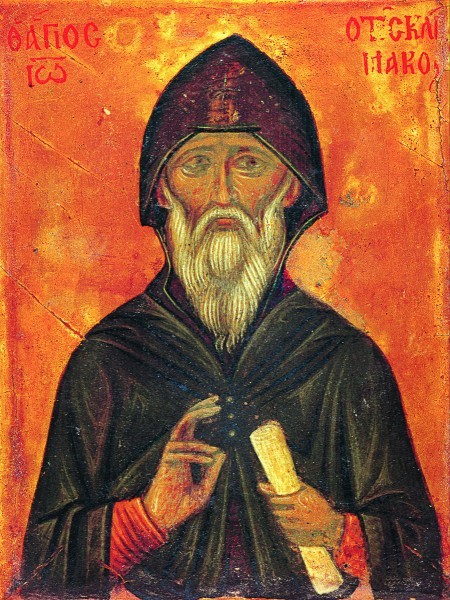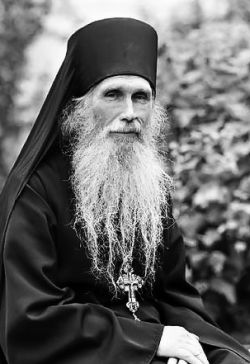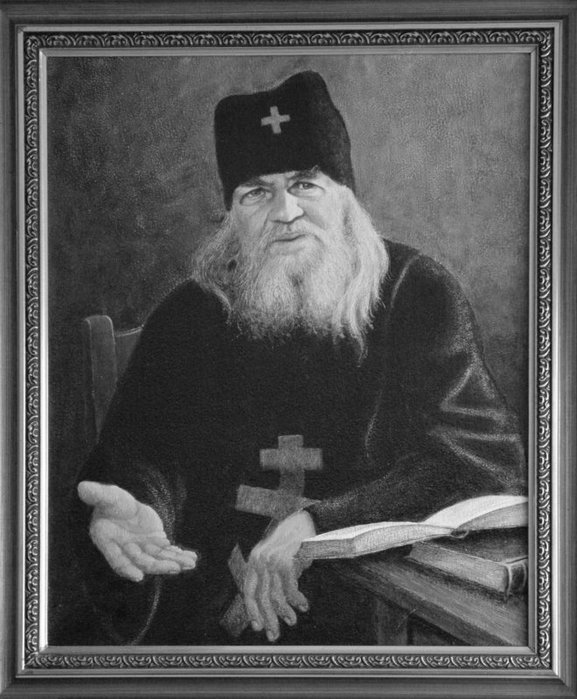Сколько будут жить христиане, столько будут толковать на разные голоса грех гордости. Чувство собственного достоинства? Завышенная самооценка? Презрительное отношение к другим? И как бороться с гордостью? Задаем этот вопрос духовно авторитетным людям разных эпох.
Святитель Игнатий Брянчанинов к этому пороку относит целый комплекс поступков, мыслей и переживаний, от презрения к ближнему до ереси.
Пожалуй, кратко охарактеризовать гордость можно, перефразируя слова древнего философа: «Я – мера всех вещей». Опасность гордости даже не в том, что я считаю себя самым лучшим. Дело в том, что я вижу события, других людей, даже Самого Бога только своими собственными глазами – и считаю, что мое зрение стопроцентно.
А мое зрение как минимум ничуть не лучше, чем у всех остальных. И, между прочим, хуже всего мне видно самого себя. Своя голова кажется центром вселенной – а ведь это только моя вселенная, ограниченная и маленькая…
1. За советом – к Библии
Преподобный Ефрем Сирин
Лучшие советы по борьбе с грехом может дать Сам Бог. Преподобный Ефрем Сирин в качестве «врачевства против гордости» предлагает чаще перечитывать «места Писания, направленные против неё»:
«Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк.17:10).
«Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» (Гал.6:3).
«Что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лк.16:15).
«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.11:29).
«Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его; и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его» (Пс.135:23-24).
«Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш» (Пс.114:5).
«Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем» (Притч.16:5).
К рекомендованным преподобным Ефремом Сириным стихам можно добавить общеизвестное: «Бог гордым противится а смиренным дает благодать» (Иак.4:6), «в устах глупого – бич гордости; уста же мудрых охраняют их» (Притч.14:3), «всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:16) и другие цитаты.
2. «Это не я»
Святитель Николай Сербский
Строго говоря, нам нечем гордиться. Святитель Николай Сербский еще раз напоминает притчу о рабе, выполняющем свои обязанности:
«Как можно скорее предавай забвению свои заслуги и труды. Стыдно тебе, если пчела и муравей превзойдут тебя в этом. Плод гордости за свои заслуги – злоба, ссоры и вражда между людьми, а за ними – неизбежное чувство ненужности и отчаяние. Видел ли ты когда-нибудь пчелу и муравья в отчаянии? В самом деле, стыдно, если они лучше людей исполняют заповедь Христову: Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17, 10)».
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин тоже рекомендует приписывать успех своих трудов Богу и поясняет:
«Я говорю это не с тем, чтоб, уничижая человеческие усилия, хотел отклонить кого либо от заботливого и напряженного труда. Напротив я решительно утверждаю, что совершенство без них ни как не может быть получено, и ими одними без благодати Божией оно никем не может быть доведено до надлежащей степени. … Благодать Божия сообщается только трудящимся в поте лица».
3. Математический метод борьбы с гордостью
«Но я же делаю много хорошего, правильного и доброго!» – станет защищаться гордец. И будет неправ. «Много» – это сколько? А если сравнить с количеством грехов?
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Святой праведный Иоанн Кронштадтский так и советует поступить:
«Когда придет тебе в голову безрассудная мысль – сосчитать какие-либо добрые дела свои, тотчас же поправься в этой ошибке и скорей считай свои грехи, свои непрерывные, бесчисленные оскорбления всеблагого и праведного Владыки и найдешь, что их у тебя как песку морского, а добродетелей сравнительно с ними, все равно что нет».
4. Унижение или смирение?
Еще более распространенный спор, чем дискуссия о природе гордости – где граница между смирением и унижением? Правда ли, что христианину должно быть присуще исключительно «чувство собственного недостоинства»?
Нет, неправда. И граница очень проста: унижают человека против его воли, а смиряется он сам. Смирение – активное состояние. Митрополит Антоний Сурожский говорит о нем:
«Когда мы ищем смирения, мы можем ставить перед собой вопрос: как мы относимся к тому, что Господь нас посылает в ту или иную обстановку? С внутренним миром или с протестом, с разборчивостью? «Я не этого хочу, я хочу другого – почему Ты меня сюда послал? Я хочу добра, Ты должен был послать меня в ту обстановку, где все вокруг добрые и будут меня вдохновлять, помогать, нести на руках; почему Ты меня посылаешь в обстановку, где все – мрак, где все — плохо, где все – дисгармония?»
Эта наша обычная реакция, и это один из показателей того, что наша реакция не смиренна. И когда я говорю «смиренна», речь не о том, чтобы чувствовать себя или сознавать себя как бы побежденными: «Что же я сделаю против воли Божией – смирюсь». Нет, не побежденность, а активное смирение, активная примиренность, активный внутренний мир делают нас посланниками, апостолами, людьми, которые посланы в темный, горький, трудный мир, и которые знают, что там их природное место или благодатное место».
Преподобный Иоанн Лествичник
Преподобный Иоанн Лествичник рекомендует смирение как средство борьбы с гордостью:
«Людям гордого нрава полезнее всего быть в повиновении, проводить житие грубейшее и презреннейшее… Ничто так не смиряет душу, как пребывание в нищете и пропитание подаянием».
Понятное дело, что самостоятельно лечить гордость нищетой или послушанием — и жить в нищей семье или в унизительном рабстве – вещи разные. Во втором случае смирение тоже может быть полезно (или вредно – с какой стороны посмотреть), но к искоренению гордости это никакого отношения не имеет.
5. Наказание за грех
Святитель Феофан Затворник, которого сложно обвинить в экзальтированности и нетрезвости, дает совсем радикальный совет – наказывать себя за гордость, в том числе и физически. Собственно, изначально это совет против гнева:
«Найдите веревку – толстенькую – и идите к сестре. Положив ей поклон земной, скажите: добрая сестрица, сослужи мне службу, вот этою веревкою отдуй меня хорошенько. Можете меру назначить – пять, десять ударов, только бы чувствительно было. Делайте так после каждой вспышки гнева. Этот прием и против гордости хорош».
Святитель Феофан Затворник
Мы все-таки живем не в монастыре в XIX веке, а в миру полтора столетия спустя. Если мы предложим ближнему пороть нас за проявления гордости, в лучшем случае это вызовет у него недоумение. А вот наказывать себя самостоятельно и без членовредительства не помешает.
Выполнил задание начальника и задрал нос – откажись от футбольного матча. Поглядела свысока на неряшливо одетую коллегу: «То ли дело мой безупречный вкус!» – никакого десерта…
6. Не стесняйся плакать
Отцы Церкви часто говорят о пользе слез, и у современного человека это вызывает непонимание. В чем польза сентиментальных рыданий – даже покаянных?
Святые не сентиментальны. Они умеют жестко обличать грех, проповеди их зачастую грозны. Слезы нужны совсем не для умильных переживаний и не для сокрушения о своей тяжелой жизни и несправедливости. Слезы – это признание своего несовершенства.
Святитель Николай Сербский уподобил гордость растению, выросшему на иссохшей земле. Сокрушенное сердце поднимает влажные (слезами увлажненные) пласты земли ради того, чтобы душа принесла новый плод. Плач сочувствия и покаяния – вот ключ к исцелению сухой и черствой гордости.
«Для созидания райской пирамиды не нужны слезы яростного гнева и слезы сожаления о потерянном или не полученном богатстве земном, – поясняет святитель. – Евангельские слезы – это те, что текут из сокрушенного и покаянного сердца. Евангельские слезы – это те слезы, что горюют о потерянном Рае. Евангельские слезы – это те слезы, что смешиваются со слезами детей и страдальцев. Евангельские слезы – это те слезы, что смывают вред, который нанесли мы небесной Любви».
7. Единственный Целитель
Вернемся к началу. Наше зрение слабо, мы неверно оцениваем себя и других, посему полностью доверять себе – гордость, тягчайший грех.
Архимандрит Кирилл (Павлов)
Наш современник архимандрит Кирилл (Павлов) уподобляет гордого человека слепорожденному из Евангелия – получив исцеление от Спасителя, он исцелился и духовно и уверовал в Него. Напротив, люди, не желавшие принять благодать Христа, фарисеи, обвиняли Его в совершении чудес бесовской силой. Это проявление уже не простой, а сатанинской гордости.
«Слепотствующий душой по гордости и упорству есть самый несчастный человек, добыча ада, исчадие сатанинское, напитанное гордостью и злобой отца своего диавола. Это-то и есть хула на Духа Святаго, когда человек по гордости и упрямству не хочет верить явной истине, доказываемой явными же чудесами. Нет таковому прощения ни в сем, ни в будущем веке», — подчеркивает отец Кирилл.
Действительно, сознательное отвержение Христа – Бога – итог гордости, фактическая цель ее. Так что самое надежное средство в борьбе с этим недугом – взирать на Того, Кто может его исцелить. «Во всем нам нужно стремиться подражать тому, как поступал Господь, как учит нас тому Евангелие».
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
Гордыня заставляет человека думать, что он лучше, чем другие. Речь не идет о героических поступках или серьезных достижениях. Горделивые люди зачастую их не имеют. Они просто возвышают себя до небес, считая других просто пылью. Из-за этого общение с ними приносит дискомфорт. И это не все сложности. Такие люди сталкиваются с одиночеством, теряют внутреннюю гармонию. Можно ли исправить ситуацию? Как избавиться от гордыни, чрезмерного самолюбия и высокомерия?
Содержание
- Что такое гордыня
- Гордыня и гордость – в чем разница
- Признаки гордыни и высокомерия
- Причины развития гордыни
- Проблемы высокомерия
- Как избавиться от гордыни
- Осознайте проблему
- Рассмотрите горизонты
- Общайтесь с более успешными людьми
- Постоянно меняйте хобби
- Работайте с собственными недостатками
- Критикуйте сами себя
- Попросите критику у близкого человека
- Полезные советы
- Заключение
Что такое гордыня
Гордыня — это качество, противоположное смирению и скромности. Психология, философия и этика определяют его как неспособность пойти на компромисс, пожертвовать собой, своими интересами ради другого человека. Это нездоровое самолюбие, тщеславие.
Горделивый человек всегда и везде выставляет напоказ свое «Я». Он незаслуженно приписывает себе успехи и достижения, унижая при этом окружающих. Требует похвалы, признания, поклонения. Других людей считает недостойными своего внимания.
Если сказать простыми словами, гордыня – это слепая, фанатичная любовь к самому себе, эгоизм, чувство высокомерия.
Гордыня и гордость – в чем разница
Не стоит путать гордость и гордыню. Гордость – следствие упорного труда над преодолением себя, достижением целей. Это подтверждение ценности своих успехов. Это качество можно и нужно показывать окружающим. Не зря в средствах массовой информации часто рассказывают о героических поступках, которыми стоит гордиться.
Примечательно, что есть гордость за других людей. Например, вы можете гордиться тем, что супруг поднялся по карьерной лестнице, занял ответственную должность. Или ребенок сам поступил в престижный ВУЗ. Поводов для гордости множество. И не только за близких, но даже незнакомых людей.
Чем еще отличается гордость от гордыни?
| Гордость | Гордыня |
|---|---|
| Включает в себя чувство собственного достоинства, самодостаточность, независимость. | Включает в себя зависть, лживость, лицемерие. |
| Можно гордиться собой и другими людьми. | Человек сосредоточен исключительно на себе. Считает ниже своего достоинства общаться с окружающими. |
| Побуждает действовать, идти к новым вершинам, верить в себя. | Не мотивирует к действию. Побуждает незаслуженно приписывать себе успехи других. |
Интересно, что в православии гордыня считается большим грехом, от которого нужно как можно скорее избавиться.
Признаки гордыни и высокомерия
Горделивый человек выделяется на фоне других. Для него характерны такие черты и поступки:
- В его речи часто встречаются «Я» и «Мое». Даже мир он разделил на 2 части. Одна – он сам. Другая – окружающие люди. Причем последние не представляют для него никакого интереса.
- Презирает окружающих, превозносит себя. Горделивый человек вспоминает о других людях только в целях сравнения. Он определяет, насколько выгодно смотрится на их фоне. В вымышленном мире он в сотни раз лучше тех, кто живет вокруг него. Но даже это не дает ощущения настоящего счастья.
- Уверен в своей правоте. С горделивым человеком спорить бесполезно. Есть только его мнение. И не важно, что вы приведете массу опровергающих фактов.
- Постоянно осуждает других. Обычно это происходит так: «А вот я никогда бы так не сделал». Эти слова применяются абсолютно ко всем сферам жизни.
- Раздает советы, когда в них не нуждаются. А перед тем, как что-то сказать, еще и осудит, унизит собеседника. Горделивым людям наплевать на то, что их мнением в данной ситуации никто не интересуется.
- Не признает ошибки. Обвиняет в них не себя любимого, а окружающих, обстоятельства.
- Не умеет достойно проигрывать. Горделивый человек никогда не признается в том, что кто-то лучше его. Поэтому при любом раскладе будет унижать, оскорблять соперника.
- Говорит в приказном тоне. Редкое явление – горделивые люди, говорящие в спокойном тоне. Они не умеют сдерживать гнев и другие плохие эмоции. Они грубят, хамят, повышают голос.
- Постоянно хвастаются. Уверены, что их достижения лучше, чем у других. Пытаются доказать это окружающим.
Хотели бы вы общаться с таким человеком? Скорее всего, нет. И вас поддержат многие. Именно поэтому горделивые люди часто остаются одинокими. С ними никто не хочет дружить. И это не удивительно. Кому приятно слышать постоянные претензии, унижения, хвастовство?
Причины развития гордыни
Как многие другие черты характера, гордыня берет начало из детства. Главная причина ее появления – неправильное воспитание. Представьте ситуацию, когда родители учат ребенка тому, что он самый лучший, умный, сообразительный. И при этом не наказывают его за провинности. В результате ребенок не умеет слушать и принимать критику. Он считает себя идеальным, совсем не видит недостатков.
Конечно, это не значит, что детей нельзя хвалить. Но не стоит прививать им превосходство над сверстниками. Оно приведет к развитию гордыни, завышенной самооценке, чрезмерному самолюбию. Взрослея, такой ребенок столкнется с массой трудностей. Первая из них – недопонимание в общении с окружающими людьми. Вряд ли кто-то захочет мириться с приказным тоном, постоянным хвастовством, презрением.
Есть еще 3 причины развития гордыни:
- Наличие талантов. У кого-то уже в детстве проявляются незаурядные способности, позволяющие в кратчайшие сроки добиться успеха в какой-либо сфере. После получения признания в обществе такие люди зачастую считают себя лучше других.
- Аристократичность или особый статус. Допустим, человек родился в семье известных политических деятелей или, к примеру, актеров. Скорее всего, уже с детских лет он будет пользоваться славой и популярностью. Но достигнет их не сам. Это будет слава и высокое положение родителей.
- Низкая самооценка. Удивительно, но неадекватная оценка себя также считается причиной развития гордыни. Человек осознает, что он не смог ничего добиться. Боясь насмешек со стороны, он начинает хвастаться, приписывать себе чужие заслуги. И даже не задумывается, насколько глупым, смешным кажется такое поведение.
Гордыня развивается у богатых, наделенных властью людей, и у бедных, ущемленных, униженных. Поэтому чаще всего она безосновательна.
Проблемы высокомерия
Гордыня – общесоциальная и внутриличностная проблема. Горделивый человек создает дискомфорт тем, кто находится рядом с ним. Сначала его избегают друзья, а после даже новые знакомые. Он не получает поддержки и понимания.
Вокруг гордеца будут только те люди, которые имеют низкую самооценку, готовы всегда жертвовать собой ради других, ищут унижения. В союзе с теми, кто считает себя идеальными, они найдут гармонию. Но стоит отметить, что такое общение не приведет ни к чему хорошему. Оно только усилит проявление отрицательных качеств и тех, и других.
Внутриличностная проблема состоит в том, что человек все равно знает свои недостатки. О них ему напоминает внутренний голос. Чем чаще звучат такие напоминания, тем хуже гордец относится к окружающим. Он презирает, оскорбляет, осуждает их. Он не хочет исправлять свои ошибки. Вместо этого ищет изъяны в других, постоянно указывая на них.
Возможен и другой вариант развития событий. Представьте, что горделивый человек столкнулся с жестокой реальностью. Внезапно он осознал, что его достижения и успехи – это всего лишь фантазии. Тут начинается самоуничижение. И снова возможность оценить реальное положение вещей исчезает.
В случаях, когда горделивые люди так и не видят, что происходит на самом деле, гордыня прогрессирует. Это приводит к распаду семьи, одиночеству, моральному и физическому истощению, а также внутриличностному кризису.
Как избавиться от гордыни
Есть 10 эффективных шагов.
Осознайте проблему
Это, пожалуй, самое главное из того, что нужно сделать. Если понимаете, что проявления гордыни причиняют вам и окружающим неудобства, пришла пора действовать. Берите себя в руки, учитесь контролировать мысли, работайте над самооценкой.
Рассмотрите горизонты
Задумайтесь вот над чем. Успешный человек может иметь гордость за себя и свои достижения. В то же время не имеет права унижать окружающих. Посмотрите на тех, кто построил бизнес, продвинулся по карьерной лестнице, достиг высот в спорте или творчестве. Если вы со своими достижениями смотрите свысока на других, успешные люди так же могут относиться и к вам? Получается вы тоже для них не больше, чем грязь под ногами?
Общайтесь с более успешными людьми
Еще один способ, как избавиться от гордыни. Берите пример с тех людей, которые стали успешными. Обращайте внимание на все сферы их жизни. Интересуйтесь тем, как они ведут бизнес, общаются с семьей и друзьями, отдыхают, развлекаются.
Если вы считаете ниже своего достоинства брать с кого-то пример, задайте себе вопрос. Почему этот человек добился славы и признания, а вы еще нет?
Постоянно меняйте хобби
Здесь нужно быть осторожными. Навыки и умения в какой-либо сфере деятельности могут вызвать гордыню. Человек будет постоянно хвастаться своими достижениями. Но стоит ему понять, что еще есть чему учиться, ситуация изменится.
Меняйте хобби сразу, как достигнете вершин. Новые знания, навыки и интересы пригодятся для саморазвития.
Работайте с собственными недостатками
Действенный способ избавления от гордыни. Помните, недостатки есть у всех людей. С ними нужно работать. Не пытаться победить, а именно работать.
Возьмите чистый лист бумаги. Выпишите свои отрицательные качества. Время от времени пересматривайте список. Задумайтесь, могут ли в характере идеального человека быть такие черты? Конечно, нет. Значит, работайте над их устранением.
Критикуйте сами себя
Это можно делать несколькими способами. Делайте себе замечания мысленно, пишите их на бумаге, говорите на диктофон. Вариант не имеет значения. Главное – быть честным с самим собой, не давать себе поблажек.
Попросите критику у близкого человека
Гордыня не позволяет оценивать себя объективно. Поэтому попросите помощи у тех людей, которым вы доверяете. Пусть они назовут 3 ваших недостатка. Не пытайтесь оправдываться, как бы вам этого не хотелось.
Обдумайте услышанное. На это может уйти не день и не два. Как только вы осознаете правоту собеседника, приступайте к работе над собой.
Полезные советы
Есть и другие способы, как можно избавиться от гордыни и высокомерия:
- Всегда думайте о чувствах окружающих. Помните: иметь собственное мнение может каждый человек. Также все имеют право на личную жизнь. Поэтому не будьте бестактными. Не пытайтесь дать совет, если вас об этом не просят. Будьте тактичными, терпеливыми.
- Ведите дневник. Сначала записывайте туда все проявления гордыни. А после то, как успешно вы с ними боретесь. Через неделю или месяц оцените действия. Это придаст вам сил идти дальше.
- Станьте альтруистом. Это люди, которые искренне, бескорыстно заботятся о других. Так вы сможете побороть гордыню, расширить круг общения, научиться заводить новые знакомства.
- Откажитесь от общения с теми, кто постоянно перед вами лебезит. Лесть вызывает гордыню даже у скромных, стеснительных людей. Поэтому ограничьте такое общение. Неискренность вам не нужна.
И еще один совет, как избавиться от гордыни и высокомерия. Каждый день делайте то, на что никогда не решились бы раньше. Считаете ниже вашего достоинства сделать в доме уборку? Придется перебороть себя. Или, может быть, для вас низко подметать улицы? Попробуйте убрать участок возле своего дома или подъезда.
Но не стоит впадать в крайности, унижать себя. Вам нужно понять, как бороться с гордыней, а не понизить самооценку.
Заключение
Как избавиться от гордыни и тщеславия? Психологи рекомендуют выявить причину развития этих качеств. После подумайте, как далеко вы зашли в их проявлении. Возможно, у вас испортились отношения с коллегами, родными и друзьями. А может, вы уже одиноки. Если так и есть, начинайте действовать. Научитесь общаться с людьми в дружелюбном тоне, учитывайте их мнение, принимайте критику. Уже скоро вы увидите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. И у вас появится гордость за вашу пусть маленькую, но победу.
- Слово священника пред чтением этой книги
- Гордость — тысячеглавый змий
- Святитель Тихон Задонский. Яд, сокровенный в человеке
- Схиигумен Савва. Семя сатаны (О гордости)
- Сущность гордости
- Симптомы и развитие Болезни
- Как распознать в себе гордость?
- Дьявольские искушения
- Примеры искушений из жизни чад
- Преподобный авва Дорофей
- Не оправдывайте самих себя
- Семь нечистых духов
- Серафим Роуз. Тщедушие
- Протоиерей Иоанн Восторгов. Самомнение
- Священник Александр Ельчанинов. Демонская твердыня (О гордости)
- Преподобный Иоанн Лествичник. О многообразном тщеславии
- О безумной гордости
- О неизъяснимых хульных помыслах
- Иеромонах Амвросий (Ермаков). Из поучений Святителя Иоанна Златоуста
- Протоиерей Александр Шмеман. Возвышающий себя, унижен будет…
- Архимандрит Лазарь. Гордыня склоняется к учительству
- Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. О гордости и смирении
- Уроки врачевания гордыни (советы святых Отцов)
- Преподобный Ефрем Сирин. Уроки жизни: восемь злых помыслов
- Схиигумен Иоанн (Алексеев), старец Валаамского монастыря. Письмо с Нового Валаама
- Схиигумен Савва. Уныние и отчаяние
- Митрополит Антоний Сурожский. Бойтесь мнимой праведности
- Священник Вячеслав Резников
- О стыде
- О преодолении плотского самоутверждения
- Преподобный Никодим Святогорец. Благоразумное молчание — пагуба гордости
- Преподобный Никодим Святогорец. Изгони из сердца самоцен высокий…
- Протоиерей Александр Шмеман
- Терпением спасайте души свои…
- Блудных исправляют люди, лукавых — ангелы, а гордых — один Бог…
- Митрополит Трифон Туркестанов. Слово перед общей исповедью
- Архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Скромность — трудно исполнимая форма добра…
- Святитель Игнатий Брянчанинов. Мнимое смирение — порождение Гордости
- Старец Паисий Святогорец
- Будем готовить себя к жизни иной
- Мы должны осознать добро необходимостью
- Поможем миру в покаянии
- Покаяние содействует исчезновению зла
- Святитель Лука. Толкование на молитву святого Ефрема Сирина
- Молитва святого Ефрема Сирина — о праздности
- Молитва святого Ефрема Сирина — об унынии
- Молитва святого Ефрема Сирина — о любоначалии
- Молитва святого Ефрема Сирина — о празднословии
- Молитва святого Ефрема Сирина — о целомудрии
- Молитва святого Ефрема Сирина — о смиренномудрии
- Молитва святого Ефрема Сирина — о терпении
- Молитва святого Ефрема Сирина — о любви
- Заключение молитвы святого Ефрема Сирина
- Молитвы
- Молитва при тщеславных помыслах
- От гордости
- Молитва святому преподобному Алексию, человеку Божию
- Преподобному Арсению Великому
- Молитва в отчаянии сущих
- Молитва об обращении заблудшихся
- Как молиться об оскорбляющих нас
По благословению архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия
материалы книги подобраны игуменом Митрофаном,
настоятелем храма Державной иконы Божией Матери
Помоги, Господи, изжить гордыню
Слово священника пред чтением этой книги
Я являюсь клириком храма в честь Державной иконы Божией Матери в Чертаново.
По церковным праздникам и воскресным дням большое количество народу собирается в наш храм помолиться, исповедаться и причаститься Святых Тайн Христовых. В такие дни перед священником, стоящим у исповедального аналоя, проходят сотни душ, открытых Богу в таинстве покаяния. И проплывают перед его мысленным взглядом удивительные и страшные картины жизни человеческой души: взыграния всё сметающей мощи страстей, напряженнейшей борьбы с ними, падений и подъемов, отчаяния и надежды, и — всепобеждающей помощи Божией.
А во главе всех страстей стоит их прародительница — гордость.
Каждый, кто пытался хоть сколько-нибудь серьезно бороться со страстями, знает насколько трудно победить главную из них — свою гордость. Ведь мало человеку осознать грех и понять, какая страсть действует в нем, прикрываясь многоликой маской самооправдания, мало понять путь, ведущий к победе над страстью, — нужно ещё и пройти этим путем. А это очень трудно сделать. Потому что борьба со страстью требует постоянных усилий, постоянного труда. Потому что на пути духовного нашего возрастания возникает множество вопросов, которые необходимо суметь правильно разрешить. Для этого нужна опытность, нужен совет, который мы ищем у духовника.
Но что же делать, когда нет его рядом? Или когда у него нет возможности беседовать с нами так подробно и обстоятельно, как нам хотелось бы? А такое, к сожалению, бывает в наших московских храмах. Когда, например, на праздник — как бывает в нашем приходе — мы причащаем тысячу человек, сил и времени у трех-четырех священников просто физически не хватает, чтобы совершить обстоятельную, неспешную исповедь. Что же делать тогда человеку, который серьезно хочет бороться со своими страстями и достигнуть в этой борьбе успеха?
С одной стороны, всё же искать возможность общения с духовником, а, с другой стороны, — обращаться к опыту святых отцов. Потому что святые отцы передают нам практический опыт жизни по заповедям. Они деятельно — своей жизнью — изучили многообразные проявления страстей, и нашли пути борьбы с ними. И мы имеем неоценимое сокровище в виде трудов святых отцов. Сокровище, которое, как путеводитель, ведет нас в Царство Божие. Оно научает нас борьбе со страстями и стяжанию добродетелей. Такой борьбе, которая способна привести к очищению наших сердец. А, по слову Божию, «чистые сердцем Бога узрят».
Не к этому ли стремится каждый из нас?
Лежащая перед вами книга содержит в себе поучения святых отцов и современных проповедников, посвященные борьбе со страстями и, прежде всего, — гордостью.
Поскольку гордость, как уже было сказано, изначально лежит в основе греховной пораженности человеческой природы, поскольку издревле ею поражен окружающий нас мир и поскольку мы действительно жаждем победить этот грех — святые отцы укажут нам неложный, истинный и реальный для каждого из нас путь.
И мы надеемся, что эта книга, появление которой стало возможно благодаря отклику православного издательства «Сибирская Благозвонница», поможет всем, действительно ищущим своего спасения, с помощью Божией изжить в себе страсть гордыни и обрести спасительную добродетель смирения.
Виктор Гусев,
священник храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново
***
Кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, и не терпят обличения и позора.
cвятитель Игнатий (Брянчанинов)
Гордость — тысячеглавый змий
Святитель Тихон Задонский. Яд, сокровенный в человеке 1
Бывает, что человеку от злых людей подается яд самопревозношения, — тако от древнего змия, врага нашего, диавола, влиялся яд греховный и смертоносный в естество наше. Человек хотя и здоров бывает, однакож, когда в себя приемлет каким-либо случаем этот яд, от того сильно немоществует — тако естество наше было чистое, непорочное, святое, доброе, но, когда ядом хитрого и лукавого оного змия заразился, тогда в неисцельную немощь и беду впало. Яд, имеющийся в человеке, все тело его заражает — тако смертоносный оный яд змиин все силы душевные и телесные наши заразил.
Отсюда бывает не только гордость, но и высокоумие, презрение ближнего, осуждение, оклеветание, злословие, ругание, делом и словом отмщение, желание и искание собственной своей чести, славы и похвалы.
Отсюда лесть, лукавство, хитрость, ложь и лицемерие.
Отсюда студное дело, срамословие.
Отсюда излишнее о пище и питии и о трапезах попечение.
Отсюда столько вымышляют люди перемен в одежде и платье, в строении и украшении домов, в приуготовлении карет и коней и прочей суеты.
Все сие и прочее подобное сему от плотского мудрования и смертоносного яда змиина, в сердце человеческое всеянного, происходит.
Яд, имеющийся внутри человека, мучит человека и временем нестерпимую ему соделовает болезнь — тако яд оный змиин, сокровенный в душе, весьма мучит душу и различную ей соделовает болезнь.
Смотри, что делает гордость в человеке! Како его мучит! Сколько он вымышляет способов, како бы достать честь, славу и похвалу в мире сем! Доставши, с каким трудом и попечением бережет сокровище свое сие! Како негодует, когда от кого презирается! Како болезнует, смущается, ропщет и злобствует. Когда чести лишится, тако что многие себя умерщвляют!
Схиигумен Савва. Семя сатаны (О гордости)2
Сущность гордости
Гордость — это страшная душевная болезнь, которая очень трудно излечивается. Нет более мерзкого греха пред Богом, чем гордость. Святые отцы называют ее «семенем сатаны».
Гордость — это крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое; источник гнева, жестокости, раздражения и злобы; отказ от Божией помощи. Но именно гордый имеет особую нужду в Боге, потому что люди спасти его не могут, когда болезнь достигает последней стадии.
Изобретатель греха, падший ангел тьмы, сам согрешил сопротивлением Богу, то есть гордостью, и весь род человеческий вводит в эту пагубную страсть.
Всякий грешник, который угождает страсти своей, ведет войну против Бога, как некогда сатана воздвиг бунт и войну на небе против Бога ради того, чтобы выйти из повиновения Ему и жить по своей воле.
Когда гордый, тщеславный, самолюбивый, славолюбивый, властолюбивый, жестокий, гневливый, завистливый, высокомерный, надменный, непослушный и другие удовлетворяют своей страсти и ради своего «Я» унижают других, то этим они как бы меч поднимают на Бога и как бы говорят Христу: «Не хотим мы следовать Твоему примеру, не хотим быть кроткими и незлобивыми! Не нравится нам Твой закон! Пускай они нам покоряются и служат, а не мы им!»
Избави, Господи, от такого помрачения! С гордыми обычно так и бывает. Если вовремя они не остановятся, не покаются, то становятся богопротивниками.
Чрез всякий грех, даже малый, в душе ослабевает благодать Божия, а чрез смертный грех люди теряют ее совершенно и делаются достойными вечного наказания.
Гордые выходят из-под власти закона Божия, поэтому сами себя лишают защиты и покровительства Божия. Они терпят поражение на всех путях своих. Живя в теле, они уже мертвы душой и еще при жизни испытывают гееннские муки: одиночество, мрачное уныние, тоску, злобу, ненависть, бесплодие, мрак и отчаяние.
Симптомы и развитие Болезни
Грех гордости по своему развитию имеет несколько стадий и начинается он стщеславия.
Симптомы тщеславия: жажда похвал; нетерпение обличений, вразумлений и упреков; мнительность, подозрительность, злопамятство; осуждение других, трудности просить прощения, искание легких путей; постоянная игра, как на сцене, в присутствии посторонних, с целью показать себя с благочестивой стороны, тщательно скрывая свои страсти и пороки.
Человек перестает видеть свои грехи, не замечает своих недостатков, начинает умалять (уменьшать) свою вину или вовсе отрицать ее, а иногда даже слагает ее на других. Знания же свои, опыт, способности и добродетели начинает преувеличивать и переоценивать. По мере развития болезни в своем мнении о себе он возрастает до великого, достойного славы. Поэтому болезнь эта так и называется: манией величия. В таком состоянии человек не только осуждает других, но начинает даже презирать и гнушаться ими и даже делает им зло. Избави нас, Господи, от этого!
А когда больному кажется, что его никто не понимает, никто не любит, но все преследуют его и хотят сделать ему зло, тогда болезнь эта именуется манией преследования.
Мания величия и мания преследования — самые распространенные формы истинной патологической душевной болезни. Эти болезни связаны с повышенным самоощущением, самоценом, когда преувеличенное чувство собственного достоинства вызывает презрение и враждебное отношение к людям.
Гордец всегда недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни, поэтому он и доходит иногда до отчаяния, богохульства, прелести3, а иногда и самоубийства.
В начальной стадии гордость трудно бывает распознать. Только опытный духовник или психолог могут безошибочно определить зарождение этой страсти.
Человек ведет себя как будто нормально, но опытный глаз усматривает в нем начало болезни. Человек доволен собой. У него хорошее настроение: он напевает, улыбается, даже часто смеется и порой без причины громко хохочет; оригинальничает, острит; делает разные приемы, чтобы обратить на себя внимание присутствующих; любит много говорить, и в его разговоре слышится бесконечное «Я», но от одного неодобрительного слова настроение его быстро меняется, и он делается вялым, а от похвалы снова расцветает как «майская роза» и начинает порхать как мотылек. Но, в общем, в этой стадии настроение у него остается светлым.
Далее, если человек не приходит в сознание своей греховности, не кается и не исправляется, то болезнь развивается и обостряется.
У человека появляется искренняя уверенность в своем превосходстве над другими. Эта уверенность быстро переходит в страсть командования, и он начинает распоряжаться чужим вниманием, чужим временем и чужими силами по своему усмотрению. Он становится нагл и нахален: за все берется, даже если портит дело, во все вмешивается, даже в чужие семьи.
В этой стадии настроение гордого человека портится, потому что он часто встречает отпор окружающих. Постепенно он становится все более и более раздражительным, упрямым, сварливым, несносным для всех. Естественно, его начинают избегать, но он убежден в своей правоте и считает, что его просто никто не хочет понять, поэтому порывает со всеми. Злоба и ненависть, презрение и надменность поселяются и утверждаются в его сердце. Душа становится темной и холодной, ум помрачается, и человек выходит из всякого повиновения. Его цель — вести свою линию, посрамить, поразить других и доказать свою «правоту». Вот такие-то гордецы и создают расколы и ереси4.
В следующей стадии развития болезни человек разрывает и с Богом… Все, что он имеет, в том числе способности и некоторые добродетели, все это он приписывает себе. Он уверен, что жизнь свою может устроить без посторонней помощи и может сам приобрести все нужное для жизни. Он чувствует себя богатырем даже при слабом здоровье. Превозносится своею «мудростию», своими познаниями и гордится всем, что имеет. Молитва же его становится неискренняя, холодная, без сокрушения сердечного, а потом он и вовсе перестает молиться. Состояние души его становится невыразимо мрачное и беспросветное, но вместе с тем он искренне убежден в правоте своего пути и с поспешностью продолжает идти к своей погибели.
Как распознать в себе гордость?
На вопрос: «Как распознать в себе гордость?» — Иаков, архиепископ Нижегородский, пишет следующее:
«Чтобы понять, ощутить ее, замечай, как ты будешь себя чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде всего не мысль кротко исправить ошибку, другими допущенную, а неудовольствие и гневливость, то знай, что ты горд, и горд глубоко.
Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и наводят скуку и тягость, так что и мысль о Промысле Божием, участвующем в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что ты горд, и горд глубоко.
Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих, тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай, что ты горд, и горд глубоко.
Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд, и горд глубоко».
Что еще можно добавить к этим признакам для распознания в себе гордости? Разве только то, что если на человека нападает страх, то это тоже признак гордости. Святой Иоанн Лествичник пишет об этом так: «Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, она боится слабого звука тварей и самих теней. Страшливые часто лишаются ума, и по справедливости. Ибо праведно Господь оставляет гордых, чтобы и прочих научить не возноситься».
И еще он же пишет: «Образ крайней гордости состоит в том, что человек ради славы лицемерно показывает те добродетели, которых в нем нет».
Дьявольские искушения
Человеческая природа склонна как к хорошему, так и к худому. Она удобоприемлема и для добра, и для зла; и для Божией благодати, и для злой силы.
Господь не насилует свободу человека, не приневоливает ее к добру, а только кротко возвещает душе о Себе и призывает ее на путь спасения. Душа же по своему произволению и по своей наклонности делает выбор: или — или… Жить с Богом по Его святой воле или жить по своей воле, не задумываясь о последствиях.
О тех людях, которые живут только по своей воле и удовлетворяют своим страстям, говорить много не приходится, потому что своя воля — адское семя, она низводит душу во ад. А вот о тех людях, которые стараются познать волю Божию и следовать ей, о них можно и нужно говорить много, чтобы помочь им в этом благом деле.
Не думай, друг мой, что гордость — это такая страсть, такая душевная болезнь, которая приводит к физиологическим и патологическим изменениям в организме человека и потому присуща только некоторым. Этим недугом заражено, можно сказать, все человечество, за исключением немногих истинно смиренных. Но болезнь эта бывает в разных стадиях, к тому же часто скрывается под покровом напускного, лицемерного смирения, поэтому проявляется она не в полной мере и часто недооценивается.
Враг рода человеческого всегда побуждает нас к разным грехам и преступлениям. Он хитер, коварен и жесток. Хорошо знает он склонности каждого из нас и искусно нападает на слабую сторону особенно того, в ком нет твердой воли.
Нет ничего удивительного в том, что дьявол с легкостью повергает человека в гордость. Ведь душа наша создана по образу и по подобию Божию чистой, светлой, благоухающей добродетелями. И по природе своей душа стремится ко всему хорошему, благородному, возвышенному. Ей хочется всегда быть в ряду первых. Хочется как можно скорее достичь совершенства, блаженства!
Ну, скажи, друг мой, разве не похвальны эти порывы души? Разумеется, похвальны!
Но… Бедная неопытная душа не успеет опомниться, как с первых же шагов попадает в коварные сети лукавого. И чем более она будет стремиться к первенству, к совершенству (по ее понятиям мирским), чем более будет преуспевать… увы! — даже в добродетели, тем более и более будет запутываться в сетях вражиих по своей неопытности, без духовного руководителя, без духовного отца.
Дело в том, что злая сила обманывает человека, внушая ему извращенное понятие о блаженстве. Она предлагает ему «блаженство» временное, земное, помогает ему преуспевать в достижении такого блаженства и коварно скрывает от человека, что спасение его и настоящее, истинное блаженство, вечное — обратно пропорционально «блаженству» земному, быстро преходящему. Если бы все это знали и со всей серьезностью хорошо уяснили бы себе это, то злая сила оказалась бы безсильной в своем коварстве и не смогла бы внушить людям горделивый помысл даже за их безчисленные добрые дела. Каждый искренно сказал бы сам себе: «Чем могу хвалиться? Разве только немощами да пороками. А что хорошее имею, так это все от Бога!» И своим смирением отогнал бы злую силу.
Но беда в том, что человек охотнее и с большим вниманием прислушивается к голосу врага своего, нежели к голосу своего Спасителя.
Тесный, тернистый и тяжелый путь смиренного христианина, он требует жертвы… требует самоотречения во имя любви к Богу и к ближнему, и на этом пути его встречают постоянные искушения от дьявола. Нужна большая сила воли, чтобы не поддаться соблазну, не устрашиться искушений, борьбы со злою силой.
Широкий, гладкий и легкий путь человека (я не называю его христианином), который живет по воле дьявола, идет на зов своих страстей и исполняет их прихоти. Внешне этот путь усеян розами, но… надолго ли?
Вот перед нами характерный пример — гордец. Злой дух был невидимым спутником его и помогал ему брать от жизни все, что смертный человек может взять, чем может насытиться и пресытиться, гоняясь за призрачным счастьем. Молодость, здоровье, красота, богатство, честь и слава, головокружительные успехи, дарования, таланты — все предоставил ему лукавый невидимый спутник, лишь бы укоренить в нем самую пагубную страсть — гордость. Беспечный человек с легкостью катился по наклонной широкой дороге, наслаждался мишурой счастья и незаметно для себя оказался на краю пропасти… Он стал невыносим для окружающих, и его стали избегать. Перестали проявлять интерес к его личности, перестали восхищаться его способностями, талантом, и он возненавидел всех. Тьма кромешная охватывает все его существо, ум помрачается, и он доходит до сумасшествия. Цель жизни потеряна, остается единственная отрада — прекращение мук, забвение всего… Дьявол радуется! Еще одна жертва — несчастный самоубийца, который становится вечным его достоянием.
Вот к какому печальному концу приводит гордость. Для примера я взял крайнюю степень, но в любой степени развития этой страшной болезни может ли быть по-настоящему истинно счастливым человек, которого не любит ни Бог, ни люди?
Ответ напрашивается сам собой.
А смиренный человек приходит к блаженному концу: к вечной радости, к вечному блаженству. Да, откровенно говоря, так ли уж тяжел и труден путь простого смертного христианина, не связанного обетами общественного служения народу? Только самое начало пути бывает болезненным для смиренного, а потом от упражнений добродетель входит в привычку, и смиренный человек уже перестает ощущать тяжесть от искушений дьявольских, наоборот, он более ощущает радости от каждой победы над собой. А когда он окончательно утвердится в этой добродетели, тогда злая сила уже не смеет приблизиться к нему, потому что смирение опаляет бесов и изгоняет их.
Тогда дьявол старается искушать его во сне, через людей, но и в этом он мало преуспевает, потому что истинно смиренный человек приятен каждому, и все его любят. Козни дьявола распознаются людьми, и благочестивые христиане не идут на грех, не восстают на праведника.
А какая неземная радость преисполняет душу смиренного человека! Сколько духовных утешений! Какая реальная близость и общение с Господом! Думаю, и ты согласишься, друг мой, ради такого реального неземного счастья всем поклониться, всех утешить, всем послужить, быть последним рабом у всех без разбора.
Искушения нам бывают на пользу. Они испытывают, очищают и просвещают душу и показывают, насколько сильна наша вера, поэтому не надо отчаиваться, когда приходят искушения, а надо мужественно бороться с ними и, самое главное, не допускать помысла: «Я лучше других». Наоборот, надо до кровавого пота нудить себя к мысли: «Я хуже всех» — и стараться находить в себе то, что подтверждало бы эти мысли.
Только никогда не забывай, мой друг, что, сколько бы ни встретилось на пути твоем неприятностей и искушений, их надо всегда принимать за знак испытания, а не за знак отвержения. На этом претыкаются многие христиане, оттого и впадают в отчаяние, почитая себя отверженными.
Искушение есть путь, ведущий к познанию Бога. Всякие бедствия, скорби и искушения сокрушают нашу душу. Но в утешение скорбящим Христос говорит: С ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его… и явлю ему спасение Мое (Пс.90:15-16).
В искушениях мы лучше и яснее познаем, что не кто-либо другой, а именно Господь (и Его Пречистая Матерь) печали наши утоляет, болезни врачует, в бедности помогает и обогащает, от смерти избавляет; познаем также, что Он — единственный источник нашей жизни, нашего спасения, нашего счастья, поэтому мы должны радоваться всяким скорбям, всяким искушениям, а не унывать и не отчаиваться.
Когда душу твою будет обуревать уныние или отчаяние, читай такие молитвы:
Всуе ты трудишься о мне, падший архистратиг. Я раб Господа Иисуса Христа. Ты, превознесенная гордыня, унижаешь себя, так усиленно борясь со мною слабым.
Что тебе, отчужденный от Бога, беглец с неба и раб лукавый? Ты не смеешь сделать нам ничего. Христос, Сын Божий, власть имеет над нами и над всем. Ему согрешили мы, Ему и оправдаемся. А ты, пагубный, удались от нас. Укрепляемые честным Его Крестом, мы попираем твою змеиную главу. Аминь.
Примеры искушений из жизни чад
Иногда приходится удивляться хитрости и тонкости вражиих искушений.
Помнишь ли, друг мой, как ты вызвал однажды на соревнование по послушанию своего друга А.? Ух, с каким восторгом ты тогда приехал! Ведь ты же опередил его!.. Но я сразу почувствовал, что это не к добру ведет. Наводящий вопрос подтвердил мои опасения: ты радовался тогда не как сеятель добрых дел, а как победитель своего соперника.
Помнишь, как ты обиделся на меня, когда я совсем отстранил тебя от послушания? Гром и молния! Давно это было… Теперь ты совсем другой, а тогда этот метод духовного воспитания для тебя был крайне необходим.
Очень важно не упустить момента зарождения гордости. Вот я тогда подумал: если сейчас не схватить гордишку за голову, то потом уж не удастся — руку отгрызет! Теперь-то ты благодарен, разумеется, а тогда у‑ух, как воевал…
Ни на одну страсть так болезненно не реагируют чада, как на гордость и тщеславие. Обличение в этом грехе принимают за личное оскорбление и обижаются, поэтому приходится умудряться и опытом жизни проводить свою линию, то есть без объяснения причин приводить к смирению. Приходится отстранять от человека то, что питает страсть гордости. Со временем человек понимает, что к чему и отчего.
Один из моих духовных чад рассказал о себе печальную повесть, как злая сила повергла его в гордость и как Ангел-Хранитель первоначально помогал ему распознавать козни вражии.
На работе он занимал ответственную должность и по долгу службы общался с большими учеными. Однажды профессор говорит:
— Вот если бы наука открыла, какие процессы происходят в том-то и том-то, то можно было бы сделать то-то и то-то… Была бы колоссальная экономия электроэнергии!
Чадо мое отвечает ему:
— Происходит там вот что… — и безсознательно, как во сне, говорит, говорит ему, а сам с ужасом думает:
«Так я, оказывается, одержимый! Кто во мне говорит? И что говорит? Теперь все узнают, что я душевнобольной… Как отнесется к этому начальство? Уволят!»
Стыдно ему стало за себя и страшно, хочет остановиться и не может. Даже такое сказал:
— Все это вы можете проверить такими опытами… Сами убедитесь!
А через месяц, когда слова его подтвердились, тогда-то прославили и вознесли его так, что пять лет он жил в постоянном страхе за себя.
С самыми сложными вопросами обращались к моему чаду. Он имел такую ясность ума, что вначале сам удивлялся и страшился, а потом привык и через пять лет незаметно для себя согласился с горделивым помыслом, приписал себе славу, и с этого времени началось его падение.
Он стал возноситься над другими, удивлялся «тупости» ученых мужей и администраторов, а иногда проскальзывало и чувство презрения, отвращения, брезгливости. В человеке он перестал видеть образ Божий, появилось обостренное чувство несправедливости, стал остро подмечать недостатки окружающих и возмущаться их «недостойным» поведением. На фоне «порочных» людей ясно видел свое превосходство и «исправность» жизни и, как фарисей, постоянно возносился над ними.
В его представлении люди разделялись на две категории: хорошие и плохие. «Плохих» людей он избегал и отворачивался от них. С хорошими же он был ласков, вежлив, обходителен, внимателен и, как родной отец или брат, заботился о них. Он их любил, они его любили, и среди них, как говорится, была тишь и гладь, и Божия благодать. Настроение у него было всегда приподнятое, ему было весело и хорошо.
Притаившийся враг хитро вел его все дальше и дальше, предвкушая победу. Гордость развивалась в нем с головокружительной быстротой. Он почувствовал в себе способность наставлять других, вести ко спасению. И вот тут-то случилось с ним нечто такое, отчего он впал в страшное, мрачное, безысходное отчаяние.
Внезапно дьявол обрушился на него с двух сторон: открыл ему глубину его гордости и разжег его плотскою страстью. Другие пять лет враг томил его хульными и блудными помыслами.
— Как знать, — закончил свой исповедальный рассказ мой прихожанин, — чем бы все это кончилось, если бы на своем пути я не встретил духовного отца. Думаю, не избежать бы мне адских мучений. Но милосердный Господь, не хотя смерти грешника, сжалился надо мной, указав мне духовный путь, как якорь спасения. Помогите же мне избавиться от гордости! О, как я боюсь этой страсти! Ведь можно возгордиться, подумав: «Я смиренный».
Видишь, друг мой, какой Господь любвеобильный! Он попустил ему впасть в тяжкие грехи, но это послужит ему средством к приобретению смирения. Говорят: «Не познавший горькое — не оценит сладкое». И еще так говорят: «Не было бы счастья — несчастье помогло». К нему очень подходят эти поговорки. Теперь-то уж, конечно, он будет осторожнее в оценке себя.
Искренно тебе скажу, друг мой, радостно бывает на душе, когда видишь, что Господь ведет таким путем, то есть когда грешник приходит к покаянию через скорби. Пережитые искушения, как крепкая стена, ограждают христианина от новых вражьих искушений, особенно самоцена. А это главное.
Некоторые, наверное, думают: у‑у, какой батюшка жестокий! Вот, например, приехали однажды чада-молодожены. Муж жалуется в присутствии жены, говорит:
— Отец, никак ей не угодить! Гордая, капризная, сварливая, все ей не так, все не хорошо. Заставляет все делать по-своему, со мной не считается, ни в чем не соглашается, наводит на грех… Что делать?
— Жену люби, как душу, — говорю ему, — но тряси ее, как грушу, когда она отводит от благочестия. Делай вот так и так…
Обиделась на меня молодая и, наверное, подумала: «Ну и батюшка!.. Какой!»
А вот и приходится быть таким, чтобы потом была всем радость и земная, и небесная.
Для назидания расскажу тебе еще случай из жизни чад, как враг разжег двух девиц ненавистью друг к другу и как они победили врага тем, что стали целовать свой крестик.
Вначале эти девицы, Е. и М., были большими друзьями и жили, как говорится, душа в душу. Но хитрый и лукавый враг позавидовал такой дружбе и стал в душах их производить смуту. Одна говорит другой:
— Ты гордая!
А другая в ответ говорит:
— А ты вовсе превознесенная гордыня!
Ну и, разумеется, вражда. Все пошло колесом. Краски поблекли, все стало представляться в ином свете. Слова друг друга стали пониматься в превратном смысле. Каждая из них думала: «Вот как можно ошибиться в человеке! Считала, что лучше ее нет никого на свете». Стали усиленно избегать друг друга, насколько это было возможно при совместном послушании. И вот, пишут, одна и другая: «Батюшка, что делать? Погибаем! Разъедините нас». Спрашиваю у М.:
— Ты крестик целуешь за Е.? — Нет.
— А почему? Разве ты не знаешь, что надо целовать крестик свой за того, кто нам в тягость?
— Простите, батюшка, забываю.
— Вот, — говорю, — злая сила и воспользовалась вашим нерадением, и крутит вами. Целуй крестик за Е. по пять раз утром и вечером, молись и искренно желай ей спасения. Е. тоже так будет делать. Тогда врага победите, и у вас опять будет мир и любовь.
Стали они приневоливать себя крестик целовать и молиться друг за друга, а потом М. рассказывает:
— Вижу, как Е. плачет, и мне делается ее так жалко! Думаю: «Ведь это я ее мучаю. Я хуже зверя», — и сама заливаюсь слезами. Смотрю только на нее и плачу, а сказать не смею — стыжусь. Думаю, что не поверит, скажет: «Лицемерка!» Молчу. Проходит неделя, другая… Молчим, иногда плачем, особенно в храме, и украдкой посматриваем друг на друга. Однажды я уловила ее взгляд. В нем было столько сострадания, такая любовь, что я не удержалась и бросилась ей на шею с рыданием:
— Сестричка, милая, прости меня ради Христа! Я люблю тебя искренно, глубоко… Что было со мной, я и сама не знаю. Верь мне, я говорю искренно!
А она душит меня в своих объятиях, целует-целует без конца и потом с сияющим взглядом говорит:
— Верю, верю, сестричка! Я потому и плакала, что видела, как ты мучаешься из-за меня… Какие же мы, взрослые, глупые — хуже детей!
После этого случая они стали любить друг друга еще сильней. Приятно смотреть на них. Всегда спокойные, энергичные, заботливые. И труд у них стал спориться.
Вот видишь, что делает животворящий Крест Господень! Гордость, как говорится, только на свет народилась, а они тут же ее приглушили. Понудили себя, помучились, зато теперь обеим хорошо. А если бы разошлись, то грех в них так бы и продолжал скрытно жить и развиваться и время от времени мучил бы их. Они остались бы с плохим мнением друг о друге и новый грех приложили бы к своим прежним грехам. А теперь они на факте убедились, что если человек не борется со злой силой, то он сам становится злым. Избави, Господи!
Вот как полезны искушения, как полезна борьба с ними! Через искушения человек себя познает, а когда крестик целует — тогда козни врага видит, поэтому от каждого искушения становится все опытнее и опытнее.
Только не надо забывать крестик целовать и молиться за тех, кто нам в тягость, и тогда все будет хорошо, враг ничего не сможет сделать.
Преподобный авва Дорофей
Не оправдывайте самих себя5
Потом Он научает нас, как посредством святых заповедей очищаться и от самых страстей, чтобы чрез них не впасть опять в те же грехи. Наконец, показывает нам и причину, от которой приходит человек в небрежение и преслушание самих заповедей Божиих, и таким образом подает нам врачевство и (противу) сей (причины), дабы мы возмогли сделаться послушными и спастись. Какое же это врачевство и какая причина небрежения? Послушайте, что говорит Сам Господь наш: научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф.11:29). Вот здесь Он показал нам вкратце, одним словом, корень и причину всех зол и врачевство от оных — причину всего благого; показал, что возношение низложило нас, что невозможно иначе получить помилование как чрез противоположное ему, то есть смиренномудрие. Ибо возношение рождает пренебрежение, преслушание и погибель, как и смиренномудрие рождает послушание и спасение души. Разумею же истинное смиренномудрие, не в словах только или во внешнем образе смирение, но собственно смиренное чувство, утвердившееся в самом сердце. Итак, желающий найти истинное смирение и покой душе своей, да научится смиренномудрию и увидит, что в нем всякая радость и всякая слава, и весь покой, как и в гордости все противное. Ибо от чего подверглись мы всем скорбям сим? Не от гордости ли нашей? Не от безумия ли нашего? Не от того ли, что мы не обуздаем злого произволения нашего? Не от того ли, что мы держимся горького своеволия нашего? Да и от чего же более? Не был ли человек по сотворении своем во всяком наслаждении, во всякой радости, во всяком покое, во всякой славе?
Не был ли он в раю? Ему было повелено не делать сего, а он сделал. Видишь ли гордость? Видишь ли упрямство? Видишь ли непокорность?
После сего Бог, видя такое безстыдство, говорит: он безумен, он не умеет наслаждаться радостию. Если он не испытает злоключений, то пойдет (еще) далее и совершенно погибнет. Ибо если не узнает, что такое скорбь, то не узнает, и что такое покой. Тогда (Бог) воздал ему то, чего он был достоин, и изгнал его из рая. И (человек) был предан собственному своему самолюбию и собственной воле, чтобы они сокрушили кости его, чтобы он научился следовать не самому себе, но заповедям Божиим, чтобы самое зло-страдание преслушания научило его покою послушания, как сказано у пророка: накажет тя отступление твое (Иер.2:19). Однако благость Божия, как я часто говорил, не презрела Своего создания, но опять увещевает, опять призывает: приидите ко Мне вси труждающиися и обременнии, и Аз упокою вы (Мф.11:28). Как бы говорит: вот вы трудились, вот вы пострадали, вот вы испытали злые (следствия) вашей непокорности; придите же теперь, обратитесь; придите, познайте немощь свою, дабы войти в покой и славу вашу. Придите, оживотворите себя смиренномудрием, вместо высокоумия, которым вы себя умертвили. Научится от Мене, яко кроток есмь, и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф.11:29). О, удивление, братия мои, что делает гордость! О, чудо, сколь сильно смиренномудрие! Ибо какая была нужда во всех сих превратностях? Если бы (человек) сначала смирился, послушал Бога и сохранил заповедь, то не пал бы.
Опять, по падении, (Бог) дал ему возможность покаяться и быть помилованным, но выя его осталась непреклонною. Ибо (Бог) пришел, говоря ему: Адаме, где еси? То есть из какой славы в какой стыд перешел ты? И потом, вопрошая его: зачем ты согрешил, зачем преступил (заповедь), приготовлял его собственно к тому, чтобы он сказал: прости. Но нет смирения! Где слово прости? Нет покаяния, но совсем противное. Ибо он прекословит и возражает: жена, юже ми еси дал (прельсти мя), и не сказал: «Жена моя прельсти мя», но: жена, юже ми еси дал, как бы говоря: «Эта беда, которую Ты навел на главу мою». Ибо так всегда бывает, братия мои: когда человек не хочет порицать себя, то он не усомнится обвинять и Самого Бога. Потом (Бог) приходит к жене и говорит ей: почему и ты не сохранила заповеди? Как бы, собственно, внушал ей: скажи, по крайней мере, ты: прости, чтобы смирилась душа твоя и ты была помилована. Но опять (не слышит) слова прости. Ибо и она отвечает: змий прельсти мя; как бы сказала: змий согрешил, а мне какое дело? Что вы делаете, окаянные? Покайтесь, познайте согрешение ваше, пожалейте о наготе своей. Но никто из них не захотел обвинить себя, ни в одном не нашлось и малого смирения. Итак, вы видите теперь ясно, до чего дошло устроение наше, вот в какие и коликие бедствия ввело нас то, что мы оправдываем самих себя, что держимся своей воли и следуем самим себе. Все это исчадия гордости, враждебной Богу. А чада смиренномудрия суть: самоукорение, недоверие своему разуму, ненавидение своей воли; ибо чрез них человек сподобляется прийти в себя и возвратиться в естественное состояние чрез очищение себя святыми заповедями Христовыми. Без смирения нельзя повиноваться заповедям и достигнуть чего-либо благого, как сказал и авва Марк: «Без сокрушения сердечного невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель».
Семь нечистых духов6
Слово Божие бесконечно велико. И человеческое вглядывание в него, даже не выходящее за пределы разумения Святой Православной Церкви, постоянно обретает и новые оттенки постижения и нераскрытые прежде значения и смысла вечного.
Хорошо известна и обширно применяется притча Спасителя о нечистом духе, вышедшем из человека. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, вошедши, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого (Мф.12:43-45).
Когда душа, по изгнании страсти, не умеет наполнить себя святым положительным содержанием, — нечистые духи помогают внедрить в нее гораздо более обильную, насыщенную и интенсивно работающую страстность — семь злейших нечистых духов.
Но почему семь? Случайно ли? А если нет? А если нет, — то есть если число «семь» имеет не просто символический смысл, означающий полноту, но и вполне реалистическое содержание, из сего следует, что семь страстей, которые нечистые духи вызывают к действию в душе человека, — всегда постоянны, одни и те же (конечно, речь идет только о тех случаях, когда греховные страстные движения, — вполне конкретные, как, например, пьянство и блуд, — из души изгоняются, а начать доброе делание она не озабочивается).
Наблюдение за подобными ситуациями, а у человека внимательного они всегда найдутся под рукой, а также логика духовно-нравственной жизни человека, доказывают одинаковость действия греха в подобных случаях.
Что бы нужно было сделать человеку, сумевшему победить греховную привычку? Для начала поставить ум свой на страже сердца, чтобы он рассматривал, по крайней мере, самые грубые греховные помыслы и, как сторож, даже не очень хороший, старался бы не пропускать самые несомненно враждебные оные.
Первым в дело идет нечистый дух гордости, который в зависимости от характера и настроения чистенького «пациента», раскрывается одним из трех лиц: самодовольство («какой я все же молодец, что сумел сам победить свой грех»), самонадеянность («оказывается, это не так уж трудно; и у меня вполне достаточно сил, чтобы справиться с этим»), самоуверенность («да и вообще эта мерзость не посмеет больше ко мне приблизиться, зная, что я опытный борец с нею и победитель»). И при моей неопытности в духовно-нравственной жизни он, соблазняя человека тремя своими лицами в любом сочетании и последовательности, — проникает и прочно обосновывается в бедной душе его.
Чувство удовлетворенности, так присущее внешнему деланию, гонит прочь остатки покаяния (если только они еще сохранились в душе), но зато пропускает торжественно и пышно появляющегося четвертого нечистого духа — нераскаянности, нежелания каяться. Он бесстрашно проходит в сопровождении хороших помощников: самооправдания и невнимательности к себе. Многочисленные повседневные погрешности, видя свободу проникновения, безпрепятственно проникали в душу и, оставаясь нераскаянными, производили свое разъедающее действие. Для более крупных погрешностей тут же находились извинительные причины. Шло обширное самооправдание в грехах. Даже бывая в церкви на исповеди (в основном на «общей»), человек по существу оставался нераскаянным. Так он лишился и другого главного оружия.
Нераскаянность гордыни уже и сама по себе может привлечь из безводных мест любых нечистых духов; но они — многоопытные — знают как действовать, где удобнее всего нанести самый болезненный удар.
Его наносит следующий нечистый дух — дух неблагодарности; ему к тому же естественно занять свое срединное место там, где уже обжились самодовольство, лень, безмолитвенность, нераскаянность. Дух сей — очень коварный, лживый и злобный. Тот, кем он овладеет, становится в большой степени чужд действию Святого Духа и не слышит Его внушений. Дух нечистый вселяется в человека и он катится в пропасть. Человек, неблагодарный, ничего доброго не способен видеть ни в действиях Божиих, ни в действиях людей, жалостливо спешащих ему на помощь, а все приписывает себе.
Тогда-то, вслед за неблагодарностью, скачет шестой нечистый дух. Он приносит с собой равнодушие ко всем людям. Он приносит с собой замкнутость на себе. И равнодушному все люди небезразличны уже лишь по тому, какие они со всех сторон несут ему обиды (обиды, конечно, мнимые, но для него-то они действительны). Растет озлобленность и недовольство. Между тем, сам в своей ослепленности и равнодушии, раздает обиды направо и налево, но, не видя людей, не видит и наносимые обиды. В его окрестности, по естественному порядку вещей, смыкается круг одиночества. Наиболее разрушительно отношение к тем, кто стремится его спасти…
Сей нечистый дух хорошо поработал. Вокруг одни обломки: обломки его души; обломки прежних добрых отношений. Еще по укоренившейся привычке во всех бедах человек видит вину тех, кто суть и были окрест меня, в себе же наблюдаю одно добросердечие, но уже все более и более неладно становится на душе, и от этой неладности возрастает смутность, и самое главное — невесть как освободиться.
И тогда-то вползает и распространяется, как кисель, по всему пространству души седьмой страшнейший дух нечистый — дух уныния.
О его действии можно написать диссертацию, но — печальную. Посему лучше здесь поставить точку.
Серафим Роуз. Тщедушие 7
…Некоторые приходят в монастырь в поисках духовности, но на своих условиях. Они взвешивают, сравнивают, рассчитывают, подходит ли им эта духовность, и берутся решить сами, не доверяясь Богу. Они непременно хотят сохранить свою «личность», не понимая, что таким образом теряют ее. Что говорил Христос? Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее (Мф.10:39).
Тщедушные боятся потерять душу свою ради Христа, боятся брать на себя обязательства, боятся выказывать любовь или делить ее с кем-либо.
Если человек не реагирует в простоте сердца, руководствуясь любовью ко Христу и ближнему, он черствеет сердцем и замыкается в узкой «личной» духовной жизни, что по сути еще одна разновидность самодовольства и самодостаточности. Такой человек дорожит своими «духовными взглядами»: он сам знает, какие подвиги ему исполнять, как проводить церковную службу, как следовать церковным канонам, как устроить приходскую жизнь, на что употребить деньги, к какой «политической» группировке в церкви примкнуть, как следует работать и вести себя «истинно верующему» и пр. И это ужасно, ибо такой человек более не слышит Бога. И если такое продлится, то получается нечто совсем уж чудовищное: человек начинает принимать собственные суждения за глас Божий. И уж тогда никто ему не указ.
Даже если такой человек начнет творить Иисусову молитву, она станет еще одной стеной, за которой он будет лелеять свою «праведность». И так, затворившись в каморке собственных страхов — «как бы чего не вышло», — он отчуждается не только от действительности, но и от Бога. Господь стучится к нему в каморку, но самоупоенная душа не хочет «лишних хлопот и забот».
Отец Герман8 привел также примеры тщедушия, некоторые он намеренно преувеличил до карикатурности, дабы не бить слишком больно некоторых из братии. Отец Серафим слушал и понимал, что его сотаинник касается самых простых, самых жизненных вопросов не только ради монашествующих в скиту, но ради всех современных искателей духовности. Он улыбался забавным гротескным примерам, угадывая прототипов. Иной раз посмеивался и над собой, ибо отец Герман указывал черты, присущие самому отцу Серафиму. Он понимал, как легко сокрыться под личиной «духовности», используя ее как предлог, чтобы избежать боли, уязвимости, необходимости жертвовать из любви. Да, частичку «тщедушия» отец Серафим углядел и в себе, ее нужно уничтожить. А изничтожая тщедушие в себе, он готов был помогать в этом и другим. Он хотел гореть, а не тлеть в вере. И хотел видеть в своем маленьком монастыре пламенную христианскую любовь, а не мертвый костяк организационной формы. Конечно, важна и нужна форма, это также ступеньки наверх, к Раю, но они — не в помощь, если сердце восходящего по ним не пронизано любовью и покаянием.
Глубоко в сердце отца Серафима запали слова отца Германа. Сколько раз еще вспомнит он их в своих работах и в беседах с братией в скиту. В 1977 году на день святого Патрика, к примеру, он поведал собравшимся в трапезной паломникам и братии, как распознавать в себе «поддельную духовность». Начал он с рассказа из жизни Братства на заре его существования: «Жил в Сан-Франциско человек, возгоревшийся Иисусовой молитвой. По утрам он повторял ее раз за разом, все больше и больше, и дошел до пяти тысяч раз. Чувствовал себя распрекрасно и вдохновлялся своим подвигом: среди мирской суеты, прямо со сна, не поев и не попив, он пять тысяч раз твердил Иисусову молитву, стоя на балконе. Однажды во время моления кто-то начал возиться прямо под балконом, тем самым отвлекая молящегося! И кончилось тем, что тот, не завершив последней тысячи, стал швырять вниз на голову суетливца тарелки! Что можно сказать о человеке, якобы поглощенном духовностью, Иисусовой молитвой, если — не прерывая ее! — он начинает бросаться тарелками? Только то, что он не укротил страсти в душе, пребывая в заблуждении, дескать, я лучше всех знаю, что и как подходит моей «духовности». Он полагался на свое суждение, а не на трезвение души или духовные знания. И при первой же возможности страсти возобладали! В этом случае куда полезнее сделать что-нибудь простое, нежели пять тысяч раз повторять Иисусову молитву».
В 1982 году, незадолго до смерти, отец Серафим вновь обратился к этой теме: сколь опасно для нашей жизни подменять волю Божию своим мнением. Была Великая среда, в этот день Православная Церковь напоминает верующим о предательстве Иуды. Отец Серафим говорил в проповеди о тщедушии Иуды, сокрытом под маской благочестия — именно это и повлекло предание Бога Живого на распятие. Прочитав отрывок из 26‑й главы Евангелия от Матфея, отец Серафим продолжал: «Когда Господь ожидал уготованные Ему страдания, — как мы только что прочитали в Евангелии — приступила к Нему женщина с сосудом мира драгоценного и возливала Ему на голову. Показательно и удивительно трогательно, как Иисус принимает любовь простых людей. А Иуда — один из 12-ти бывших с Ним учеников, — глядя на такое «расточительство», уже замышлял свой план. Ведь он отвечал за казну 12-ти и «напрасная трата» дорогого мира переполнила чашу его терпения. Логика его мысли проста: «Я думал, Христос воистину велик. А он попускает пустые траты, делает многое неправильно, сам мнит себя «великим» …и тому подобные мыслишки, нашептываемые дьяволом. Дьявол хитро использовал страсть Иуды (к деньгам) и заставил того предать Христа. Иуда не хотел предавать — он всего лишь хотел денег. Он дал волю своей страсти, не распял ее.
Всякий из нас может оказаться в таком положении. Нужно всматриваться в потайные уголки сердца нашего и выявлять страсти, которые попытается использовать дьявол, дабы мы тоже предали Христа. И если мы с высокомерием взираем на Иуду: дескать, вот какой мерзавец, мы бы так ни за что не поступили — то мы глубоко не правы. Как и у Иуды, сердца наши полнятся страстями. Рассмотрим же их: нас легко уловить за любовь к «порядку», «правильности», «красоте». Оказавшись у дьявола на крючке, мы начинаем искать логических оправданий — опять же под диктовку наших страстей! А найдя самые «разумные» оправдания, мы тем самым уже предали Христа. Лишь присмотревшись к себе, осознав, что мы полнимся страстями, поймем, что каждый из нас — вероятный Иуда! Чтобы такого не произошло, когда мы боремся и боримые страстями начинаем искать оправданий, тем самым вставая на путь предательства, нужно найти в себе силы остановиться и взмолиться: Господи, помилуй мя грешного!
Нельзя всю жизнь рассматривать сквозь призму собственных страстей, переиначивать ее по собственным меркам — это гибель. В жизни все нужно принимать как ниспосланное Богом, как лекарство, способное пробудить от дурманящего сна — страстей. Испросим же у Господа, что угодное Ему можем мы сделать. Услышим Его зов и уподобимся той простой женщине: не мудрствуя, она возлила драгоценное миро на голову Иисуса и за это — где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее (Мк.14:9). Уподобимся же ей — будем четко внимать знамениям Господним. А они повсюду: в природе, в наших ближних, в каких-то «случайных совпадениях». Везде постоянно нас окружают знамения воли Божией. Нам только нужно внимать им.
Обнаружив в себе страсти и научившись обуздывать их, мы предотвратим и иудино предательство в своих душах. Ведь начинал он с малого: с заботы о «правильном» расходовании денег. И из такого малого вырастает предательство Господа нашего. Вооружимся трезвением, не станем потворствовать страстям, кишащим внутри и вокруг нас, а попытаемся узреть волю Божию, как нам сейчас, сию минуту очнуться от дурмана и последовать путем страстей Христовых и тем самым спасти свои души. Аминь».
Протоиерей Иоанн Восторгов. Самомнение 9
Несмь, якоже прочии человеци!
(Лк.18:11)
…Сегодня в лице фарисея дано нам предостережение об одном страшном враге нравственного развития и всей духовной жизни человека; этот враг — самомнение. Чем оно, так сказать, искреннее, то есть чем больше человек сам верит в свои достоинства и заслуги, тем оно опаснее и гибельнее. Молодым людям нашего времени, страдающим именно самомнением и самовозвеличением, почитающим себя солью земли, цветом интеллигентности, обновителями и руководителями жизни, по самомнению нетерпимым ко всем с ними несогласным, особенно полезно вдуматься в эту страшную болезнь духа. Ведь и в теле самая опасная болезнь та, которую человек не сознает и не замечает, и поэтому не предпринимает против нее никаких мер…
Притча о мытаре и фарисее рисует пред нами самомнение в живом и наглядном образе. Послушайте, как выхваляет себя фарисей пред Богом. Несмъ, якоже прочии человеци! Он лжет? Притворяется? Едва ли. Ибо нельзя же, в самом деле, думать, что можно обмануть Бога. Нет, он, по-видимому, искренно уверен и убежден в своей безгрешности и безупречности.
С самоуслаждением он перечисляет свои добродетели. Пощуся…, десятину даю… И в этом, думается, он опять не лжет; вполне возможно и вполне вероятно, что он и постился дважды в неделю, и десятую часть из приобретаемого отдавал.
И однако он пошел домой после молитв осужденным. За что же такой приговор? За что осуждение? Что худого сделал фарисей?
Он не сделал, конечно, нарушения закона, но ведь нравственное есть область, прежде всего — духовная, не перечень и список дел, а прежде всего и более всего духовная область настроений, чувств и мыслей, от которых исходят желания и проистекают дела. Одно и то же дело при этом получает различную окраску, имеет различную цену. Хлеб и вино в литургии, во святой чаше, на святом престоле — величайшее таинство; хлеб и вино дома за столом — простая пища и обычное угощение. Кровавая и мучительная операция врача над больным вызывает похвалу и благодарность; кровавое дело разбойника, хотя бы он был вооружен тем же ножом и наносил раны в те же места тела, остается преступлением, вызывает проклятие. И дела благочестия имеют значение, признаются или не признаются таковыми в зависимости от того духовного состояния, от того духовного настроения, из которого они проистекают. Фарисей же пришел к тому нравственному состоянию, страшному и ужасному, которое положило конец его духовной жизни и обозначило его духовную смерть. Он и впредь будет творить те же дела видимого благочестия, но и впредь они, опираясь на гордыню и самомнение, будут лишены нравственной цены.
Представьте себе человека не только сытого, но пресыщенного: захочет ли он есть? Представьте себе человека, вдоволь напившегося воды: захочет ли он пить? Самая мысль о пище противна пресыщенному, противен лишний глоток воды тому, кто не чувствует никакой жажды. Примените сказанное к духовной области. Вот человек, который любуется собой, который убежден, что он безупречен, что в нем нет никакого недостатка, что он все на него возложенное, как долг, выполнил, и еще сверх того много прибавил: нужно было фарисею поститься раз в год, а он делал это два раза в неделю; нужно было давать десятину только с поля, а он давал ее со всего приобретенного, даже с ничтожных злаков — с мяты, тмина и аниса… Может ли у такого человека быть желание дальнейшего усовершенствования, стремления к высшему званию? Разумеется, быть не может такого желания. Больше нужно сказать: одна мысль о том, что ему нужно сделаться лучшим, уже является для него оскорблением.
Пред нами знакомый образ лукавого и ленивого раба, который, получив от господина своего талант серебра, тщательно его скрыл, зарыл в землю, сохранил, не растратил, сберег до прихода господина, и в тупом самодовольстве был уверен, что исполнил долг и заслужил награду. Однако, сурово он был осужден: возьмите у него талант, — сказано о нем, — и отдайте имущему десять талантов… А негодного раба бросьте в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубовный… Таков приговор подобному бездушному, злобному и горделивому исполнению долга.
Ибо христианство есть религия духа, а не плоть, область внутреннего, а не внешнего делания, — внешнее само непременно придет при наличии внутреннего надлежащего настроения; ибо христианство есть безконечное нравственное совершенствование, а не застой, так что кто остановился на пути нравственного восхождения, тот неизбежно пошел назад, ибо христианство есть религия жизни, а не смерти. Христианство истинное и живое есть непрестающая жажда все большего и большего совершенства… Ибо блаженны алчущие и жаждущие правды: они насытятся; ибо нет такого хорошего дела, которое не могло бы быть лучше; ибо нет такого высокого нравственного состояния, которое не могло бы быть еще выше… Ибо образ (идеал) совершенства, указанный христианину, — образ вечный, безграничный, всегда недостижимый: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный.
И с этой точки зрения, при такой оценке поведения человека, разве возможна, разве допустима и уместна какая-либо гордыня и самомнительность? Напротив, чувство глубокого смирения, самое скромное мнение о себе, о своих качествах, достоинствах и силах, о своих делах и заслугах, постоянное сознание своего недостоинства и малых успехов в нравственной жизни, — вот что естественно является в человеке, вот что характеризует истинного христианина и показывает в нем истинный духовный вкус и широту понимания нравственного совершенства. Он смотрит не на то, сколько прошел, а сколько впереди остается идти. А впереди — гора Господня, гора духовного восхождения до самого неба, впереди — образ совершенства Самого Бога, Которому христианин должен уподобиться. При виде этого безконечно высокого образа разве не чувствуешь, что ты безконечно мал? Но ты сравниваешь себя с другими, тебе подобными людьми… Песчинка и огромная скала, по сравнению с земным шаром, разве так уже разнятся в значении? Разве ты уместишь их даже на картине земли?
Но у тебя есть дарование и достоинство… И ты готов любоваться ими? Верный знак, что таких достоинств у тебя и в тебе на самом деле нет. Достоинства — что духи, замечает епископ Феофан Затворник: кто надушен, тот не замечает аромата. Даже в жизни тела мы найдем нечто подобное. Я сейчас говорю, вы слушаете. А ведь в это время в каждом из вас безпрерывно совершаются самые важные процессы в теле: кровь обращается, работают мозг, нервы, мускулы, совершается восприятие света и звука, совершается таинственное усвоение организмом пищи и превращение ее в кровь, жир, в ткани и мускулы, воздух поступает в легкие и отдает им кислород, кровь окрашивается то в один цвет, то в другой… Все эти процессы для тела — самые важные; прекратись они хоть на миг, и телу грозит смерть. А между тем, вы их не замечаете. Так и самые высокие духовные совершенства в человеке. Кто их имеет, тот их не замечает.
Но у тебя есть настоящее достоинство ума, памяти, мысли, воображения? Не могу же я, — говоришь ты, — не замечать их в себе. Что же, замечай и сознавай, но подумай: что же ты имеешь? И чем же тебе в таком случае хвалиться? Ведь сам ты не можешь изменить себе ни роста, ни пола, ни возраста. И хвалишься ты чужим, а не своим. Не все ли это равно, если бы кто требовал себе славы и награды за то, что он исправно работает легкими и непрерывно дышит воздухом? Даже если ты весь твой долг исполнил, что в сущности невозможно, и тогда тебе говорит Господь: Когда исполните все вам заповеданное, говорите, что вы — рабы никуда негодные, ибо исполнили только то, что должны были исполнить (Лк.17:10). Одно то, что ты видишь конец долга и не представляешь себе его безконечности, уже свидетельствует о твоей грубости духовной. А если предаешься самомнению, ты — полное нравственное ничтожество.
Один гениальный писатель делает такое меткое замечание: достоинства и дарования у человека — это его числитель, а самолюбие и самомнение — это его знаменатель. Сами вы, знаете, что чем больше знаменатель, тем самое число мельче и ничтожнее…
Доселе говорили мы о самомнении в области нравственной, в отношениях человека к себе самому. Но оно проходит в жизнь безчисленными и разнообразными путями и видами и всюду приносит плод по роду своему, — всюду несет вред и гибель. Учащиеся высокомерно осуждают учителей и, считая себя умными, готовы давать своим учителям наставления; молодые люди с удивительной легкостью, развязностью и самомнением судят о всех вопросах религиозных, государственных, общественных, властно предлагают планы и решения, властно раздают всем приговоры, хвалы и осуждения, легко разрешают всякие недоумения; писатели и общественные деятели преисполнены уверенности, что в них именно, в их взглядах и суждениях, в их советах и мнениях — полнота истины, непогрешимость и совершенство, а прочие человеци — глупцы и никуда негодные, достойные изгнания и кары за то, что они с ними не согласны; «люди общества» живут в самовлюбленном самопоклонении и воображают, что лучше и умнее их нет ничего на свете, что они только составляют общественное мнение, что напрасно с ними не посоветовались, когда было творение мира. Все это — проявление фарисейского духа самомнения.
Берегитесь закваски фарисейской, — предупреждал Спаситель. Известно, что закваска, и в малом количестве положенная в муку, проходит во все тесто, заквашивает и поднимает его все. Так и самомнение, гордыня и лицемерие, эта закваска фарисейская, проникая и в небольшом количестве в нашу душу, действуют с силой, распространяются далеко, губят всю душу, проходя во все ее движения, отравляя мысли, чувства и намерения, и отсюда отражаясь в действиях.
Смолоду нужно беречься этой закваски. Смолоду надобно возрастать в сознании обязанностей, а не прав, и всю жизнь, вместо прирожденного нам самолюбия и гордыни, нужно развивать в себе смиренное, столь свойственное православному русскому воцерковлённому человеку сознание греховности, недостоинства, и молиться устами и духом чудною и спасающею молитвою мытарева сокрушения: «Боже, милостив буди мне грешному!»
Священник Александр Ельчанинов. Демонская твердыня (О гордости)10
Величайший знаток глубин человеческого духа, преподобный Исаак Сирин, в своем 41‑м слове говорит: «Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых; кто сподобился видеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов».
Вот к этому познанию самого себя и ведет рассмотрение вопроса, который мы поставили в заголовке.
И гордость, и самолюбие, и тщеславие, сюда можно прибавить — высокомерие, надменность, чванство, — все это разные виды одного основного явления — «обращенности на себя»; оставим его как общий термин, покрывающий все вышеперечисленные термины.
Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два: тщеславие и гордость; они, по «Лествице», как отрок и муж, как зерно и хлеб, начало и конец.
Симптомы тщеславия, этого начального греха: нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других — что они скажут? как это покажется? что подумают? «Тщеславие издали видит приближающегося зрителя и гневливых делает ласковыми, легкомысленных — серьезными, рассеянных — сосредоточенными, обжорливых — воздержанными и т.д.» — все это, пока есть зрители.
Детская и юношеская застенчивость часто ни что иное, как то же скрытое самолюбие и тщеславие.
Той же ориентировкой на зрителя объясняется грех самооправдания, который часто вкрадывается незаметно даже в нашу исповедь: «грешен как и все», «только мелкие грехи — никого не убил, не украл». В дневниках графини Софьи Андреевны Толстой есть такое характерное место: «И то, что я не умела воспитать детей (вышедши замуж девочкой и запертая на 18 лет в деревне), меня часто мучает». Главная покаянная фраза совершенно отменяется самооправданием в скобках.
«Бес тщеславия радуется, — говорит прп. Иоанн Лествичник, — видя умножение наших добродетелей: чем больше у нас успехов, тем больше пищи для тщеславия». «Когда я храню пост, я тщеславлюсь; когда же, для утаения подвига моего, скрываю его — тщеславлюсь о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь, а переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану — тщеславием облекаюсь; соблюдаю молчание — паки оному предаюсь. Куда сие терние ни поверни, все станет оно вверх своими спицами».
Ядовитую сущность тщеславия хорошо знал Лев Толстой. В своих ранних дневниках он жестоко обличает себя за тщеславие. В одном из дневников 50‑х годов он горько жалуется, что стоит появиться в его душе доброму чувству, непосредственному душевному движению, как сейчас же появляется оглядка на себя, тщеславное ощупывание себя, и вот — драгоценнейшие движения души исчезают, тают, как снег на солнце. Тают — значит, умирают; значит — благодаря тщеславию умирает лучшее, что есть в вас, значит, — мы убиваем себя тщеславием. Реальную, простую, добрую жизнь заменяем призраками. Тщеславный стремится к смерти и ее получает.
«Я редко видел, — пишет один из современных писателей, — чтобы великая немая радость страдания проходила далями человеческих душ, не сопровождаемая своим отвратительным спутником — суетным, болтливым кокетством (тщеславием). В чем сущность кокетства? По-моему, в неспособности к бытию. Кокетливые люди — люди, в сущности, не существующие, ибо бытие свое они сами приравнивают к мнению о них других людей. Испытывая величайшие страдания, кокетливые люди органически стремятся к тому, чтобы показать их другим, ибо посторонний взгляд для них то же, что огни рампы для театральных декораций» (Степун, «Николай Переслегин», с. 24).
Усилившееся тщеславие рождает гордость.
Гордость есть крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божией помощи, «демонская твердыня». Она — «медная стена» между нами и Богом (Авва Пимен); она — вражда к Богу, начало всякого греха, она — во всяком грехе. Ведь всякий грех есть вольная отдача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость против Бога, хотя «гордости подверженный как раз имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут» (Лествица).
Откуда же берется эта страсть? Как она начинается? Чем питается? Какие степени проходит в своем развитии? По каким признакам можно узнать ее?
Последнее особенно важно, так как гордый обычно не видит своего греха. «Некий разумный старец увещал на духу одного брата, чтобы тот не гордился: а тот, ослепленный умом своим отвечал ему: «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою гордость, как ни этим ответом!»
Во всяком случае, если человеку трудно просить прощения, если он обидчив и мнителен, если помнит зло и осуждает других, то это все — несомненно признаки гордости.
Об этом прекрасно пишет Симеон Новый Богослов:
«Кто, будучи безчестим или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем, о том человеке ведомо да будет, что он носит древнего змия (гордость) в недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змия этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то придаст силы змию изливать яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его».
В «Слове на язычников» святого Афанасия Великого есть такое место: «Люди впали в самовожделение, предпочтя собственное созерцанию божественному» (Творения. М., 1851 г., т. 1, с. 8). В этом кратком определении вскрыта самая сущность гордости: человек, для которого доселе центром и предметом вожделения был Бог, отвернулся от Него, «впал в самовожделение», восхотел и возлюбил себя больше Бога, предпочел божественному созерцанию — созерцание самого себя.
В нашей жизни это обращение к «самосозерцанию» и «самовожделению» сделалось нашей природой и проявляется хотя бы в виде могучего инстинкта самосохранения, как в телесной, так и в душевной нашей жизни.
Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или продолжительного раздражения определенного места, так и болезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения души (например, большим горем), или от продолжительного личного самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, постоянного проявления своего таланта.
Часто это — так называемый «темпераментный» человек, «увлекающийся», «страстный», талантливый. Это — своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной, глубокой духовностью.
В случаях обратных — в переживаниях горя — тот же результат: человек «поглощен» своим горем, окружающий мир тускнеет и меркнет в его глазах; он ни о чем не может ни думать, ни говорить, кроме как о своем горе; он живет им, он держится за него, в конце концов, как за единственное, что у него осталось, как за единственный смысл своей жизни. Ведь есть же люди, «которые в самом чувстве собственного унижения посягнули отыскать наслаждение» (Достоевский «Записки из подполья»).
Часто эта обращенность на себя развивается у людей тихих, покорных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их личная жизнь, и эта «подавленная субъективность порождает как компенсацию эгоцентрическую тенденцию» (Юнг. «Психологические типы»), в самых разнообразных проявлениях: обидчивость, мнительность, кокетство, желание обратить на себя внимание даже поддерживанием и раздуванием дурных о себе слухов, наконец, даже в виде прямых психозов характера, навязчивых идей, манией преследования или манией величия (Поприщин у Гоголя).
Итак, сосредоточенность на себе уводит человека от мира и от Бога; он, так сказать, отщепляется от общего ствола мироздания и обращается в стружку, завитую вокруг пустого места.
Попробуем наметить главные этапы развития гордости от легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели.
Вначале это только занятость собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением, переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен собой, часто хохочет, посвистывает, напевает, прищелкивает пальцами. Любит казаться оригинальным, поражать парадоксами, острить; проявляет особые вкусы, капризен в еде. Охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела; невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими фразами (перебивая чужую речь): «Нет, что я вам расскажу», или «нет, я знаю лучше случай», или «у меня есть обыкновение…», или «я придерживаюсь правила…», «я имею привычку предпочитать» (последнее — у Тургенева).
Говоря о чужом горе, безсознательно говорят о себе: «Я так была потрясена, до сих пор не могу прийти в себя». Одновременно огромная зависимость от чужого одобрения, в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и «скисает». Но в общем в этой стадии настроение остается светлым. Этот вид эгоцентризма очень свойственен юности, хотя встречается и в зрелом возрасте.
Счастье человеку, если на этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других (женитьба, семья), работа, труд. Или пленит его религиозный путь, и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше.
Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость, как, с одной стороны, отсутствие скромности, а с другой — самоуслаждение примитивным процессом самообнаружения. Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается оттого, что это многословие иногда на серьезную тему: гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос, что выше — добрые дела или молитва.
Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования; он посягает на чужую волю (не вынося ни малейшего посягания на свою), распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое дело — важно, чужое — пустяки. Он берется за все, во все вмешивается.
На этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие и отпор; является раздражительность, упрямство, сварливость; он убежден, что его никто не понимает, даже его духовник; столкновения с «миром» обостряются, и гордец окончательно делает выбор: «я» против людей, но еще не против Бога.
Душа становится темной и холодной, в ней поселяется надменность, презрение, злоба, ненависть. Помрачается ум, различение добра и зла делается спутанным, так как оно заменяется различением «моего» и «не моего». Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе; его цель — вести свою линию, посрамить, поразить других; он жадно ищет известности, хотя бы скандальной, мстя этим миру, за непризнание и беря у него реванш. Если он монах, то бросает монастырь, где ему все невыносимо, и ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, карьеру, общественную и политическую деятельность, иногда, если есть талант — на творчество, и тут гордец может иметь, благодаря своему напору, некоторые победы. На этой же почве создаются расколы и ереси.
Наконец на последней ступеньке человек разрывает и с Богом. Если выше он делал грех из озорства и бунта, то теперь разрешает себе все: грех его не мучит, он делается его привычкой; если в этой стадии ему может быть легко, то ему легко с дьяволом и на темных путях. Состояние души мрачное, безпросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его к гибели.
Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства.
Гордый — и в этой жизни пребывает в состоянии полной изоляции (тьма кромешная). Посмотрите, как он беседует и спорит: он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами; если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал, так что даже в похвалах своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного. Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни — мания величия и мания преследования — прямо вытекают из «повышенного самоощущения» и совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни (паранойя) ведут, главным образом, преувеличенное чувство собственной личности, враждебное отношение к людям, потеря нормальной способности приспособления, извращенность суждений. Классический параноик никогда не атакует себя, он всегда прав в своих глазах и остро недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни.
Вот где выясняется глубина определения прп. Иоанна Лествичника: «Гордость есть крайнее души убожество».
Гордый терпит поражение на всех фронтах.
Психологически — тоска, мрак, бесплодие.
Морально — одиночество, иссякание любви, злоба.
С богословской точки зрения — смерть души, предваряющая смерть телесную, геенна еще при жизни.
Физиологически и патологически — нервная и душевная болезнь.
В заключение естественно поставить вопрос: как бороться с болезнью, что противопоставить гибели, угрожающей идущим по этому пути? Ответ вытекает из сущности вопроса — смирение, послушание объективному; послушание по ступенькам — любимым людям, близким, законам мира, объективной правде, красоте, всему доброму в нас и вне нас, послушание Закону Божию, наконец — послушание Церкви, ее уставам, ее заповедям, ее таинственным воздействиям.
А для этого — то, что стоит в начале христианского пути: Кто хочет идти за Мною, пусть отвержется себя.
Да отвержется, …да отвергается каждый день; пусть каждый день — как сказано в древнейших рукописях — берет человек свой крест — крест терпения обид, поставления себя на последнее место, перенесения огорчений и болезней и молчаливого принятия поношения, полного безоговорочного послушания — немедленного, добровольного, радостного, безстрашного, постоянного.
И тогда ему откроется путь в царство покоя, «глубочайшего смиренномудрия, все страсти истребляющего».
Богу нашему, Который гордым противится, а смиренным дает благодать, — слава.
Преподобный Иоанн Лествичник. О многообразном тщеславии11
- Некоторые имеют обыкновение писать о тщеславии в особенной главе и отделять оное от гордости; посему и говорят они, что начальных и главных греховных помыслов восемь. Но Григорий Богослов и другие насчитывают их семь. С ними и я более согласен; ибо кто, победив тщеславие, может быть обладаем гордостию? Между сими страстями такое же различие, какое между отроком и мужем, между пшеницею и хлебом; ибо тщеславие есть начало, а гордость — конец. Итак, по порядку слова, скажем теперь вкратце о нечестивом возношении, о сем начале и исполнении всех страстей; ибо кто покусился бы пространно о сем предмете любомудрствовать, то уподобился бы человеку, который всуе старается определить вес ветров.
- Тщеславие, по виду своему, есть изменение естества, развращение нравов, наблюдение укоризн. По качеству же оно есть расточение трудов, потеря потов, похититель душевного сокровища, исчадие неверия, предтеча гордости, потопление в пристани, муравей на гумне, который, хотя и мал, однако расхищает всякий труд и плод. Муравей ждет собрания пшеницы, а тщеславие — собрания богатства: ибо тот радуется, что будет красть; а сие, что будет расточать.
- Дух отчаяния веселится, видя умножение грехов; а дух тщеславия, когда видит умножение добродетелей; ибо дверь первому — множество язв, а дверь второму — изобилие трудов.
- Наблюдай и увидишь, что непотребное тщеславие до самого гроба украшается одеждами, благовониями, многочисленною прислугою, ароматами и тому подобным.
- Всем без различия сияет солнце; а тщеславие радуется о всех добродетелях. Например: тщеславлюсь, когда пощусь; но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошие одежды; но и в худые одеваясь, также тщеславлюсь. Стану говорить, побеждаюсь тщеславием; замолчу, и опять им же победился. Как ни брось сей троерожник, все один рог станет вверх.
- Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. Он думает, что почитает Бога; но в самом деле угождает не Богу, а людям.
- Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. Пост тщеславного остается без награды, и молитва его безплодна, ибо он и то и другое делает для похвалы человеческой.
- Тщеславный подвижник сам себе причиняет двойной вред: первый, что изнуряет тело, а второй, что не получает за это награды.
- Кто не посмеется делателю тщеславия, которого сия страсть, во время предстояния на псалмопении, понуждает иногда смеяться, а иногда пред всеми плакать?
- Господь часто скрывает от очей наших и те добродетели, которые мы приобрели; человек же хвалящий нас, или, лучше сказать, вводящий в заблуждение, похвалою отверзет нам очи; а как скоро они отверзлись, то и богатство добродетели исчезает.
- Льстец есть слуга бесов, руководитель к гордости, истребитель умиления, губитель добродетелей, отводитель от истинного пути. Ближайшии вас льстят вы… (Ис.3:42), говорит Пророк.
- Людям великим свойственно переносить обиды мужественно и с радостью, святым же и преподобным — выслушивать похвалу без вреда.
- Видал я плачущих, которые, будучи похвалены, за похвалу воспылали гневом; и как случается в торговле, променяли одну страсть на другую.
- Никтоже весть яже в человеце, точию дух человека (1Кор.2:11). Итак, пусть посрамляются и обуздываются те, которые покушаются ублажать нас в лицо.
- Когда услышишь, что ближний твой или друг укорил тебя в отсутствии или в присутствии твоем: тогда покажи любовь и похвали его.
- Великое дело — отвергнуть от души похвалу человеческую, но большее — отвратить от себя похвалу бесовскую.
- Не тот показывает смиренномудрие, кто охлаждает сам себя (ибо кто не стерпит поношения от себя самого?); но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви.
- Приметил я, что бес тщеславия, внушив одному брату помыслы, в то же время открывает их другому, которого подстрекает объявить первому брату, что у него на сердце, и чрез то ублажает его, как прозорливца. Иногда сей нечистый прикасается даже к членам тела и производит трепет.
- Не внимай ему, когда он внушает тебе желание быть епископом, или игуменом, или учителем; ибо трудно отогнать пса от мясопродажного стола.
- Когда он видит, что некоторые приобрели хотя несколько мирное устроение, то тотчас побуждает их идти из пустыни в мир и говорит: «Иди на спасение погибающих душ».
- Иной вид эфиопа, и иной истукана: так и образ тщеславия иной у пребывающих в общежитии, и иной у живущих в пустынях.
- Тщеславие побуждает легкомысленных монахов предупреждать пришествие мирских людей и выходить из обители навстречу идущих; научает припадать к ногам их, и, будучи исполнено гордости, облекается в смирение; в поступках и голосе показывает благоговение, смотря на руки пришедших, чтобы от них что-нибудь получить; называет их владыками, покровителями и подателями жизни по Боге; во время трапезы побуждает их воздерживаться перед ними, и повелительно обращаться с низшими; на псалмопении же ленивых делает ревностными, и безголосных хорошо поющими, и сонливых бодрыми; льстит уставщику и просит дать ему первое место на клиросе, называя его отцем и учителем, пока не уйдут посетители.
- Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, а презираемых памятозлобными.
- Тщеславие часто бывает причиною безчестия, вместо чести; ибо разгневавшимся ученикам своим приносит великий стыд.
- Тщеславие делает гневливых кроткими перед людьми.
- Оно весьма удобно присоединяется к естественным дарованиям и чрез них нередко низвергает окаянных рабов своих.
- Видел я, как один бес опечалил и прогнал брата своего. Один монах рассердился, а между тем пришли мирские; и вдруг окаянный сей, оставив гнев, перепродал себя тщеславию; ибо не мог в одно время служить обеим страстям.
- Монах, сделавшийся рабом тщеславия, ведет двойственную жизнь, по наружности пребывая в монастыре, а умом и помышлениями в мире.
- Если мы усердно хотим угождать Царю Небесному, то, без сомнения, и славы небесной вкусим; а вкусивший ее будет презирать всякую земную славу; и я удивился бы, если бы кто, не вкусивши первой, мог презреть последнюю.
- Часто случается, что мы, будучи окрадены тщеславием, а потом обратившись, и сами быстроумнее скрадываем оное. Я видел некоторых, по тщеславию начавших духовное делание, но хотя и порочное положено было начало, однако конец вышел похвальный, потому что переменилась их мысль.
- Кто возносится естественными дарованиями, то есть остроумием, понятливостию, искусством в чтении и произношении, быстротою разума и другими способностями, без труда нами полученными, тот никогда не получит вышеестественных благ; ибо неверный в малом — и во многом неверен и тщеславен.
- Некоторые для получения крайнего безстрастия и богатства дарований, силы чудотворения и дара прозорливости всуе изнуряют тело свое; но сии бедные не знают того, что не труды, но более всего смирение есть матерь этих благ.
- Кто просит у Бога за труды свои дарований, тот положил опасное основание; а кто считает себя должником, тот неожиданно и внезапно обогатится.
- Не повинуйся веятелю сему, когда он научает тебя объявлять свои добродетели на пользу слышащих; кая бо польза человеку, если он весь мир будет пользовать, душу же свою отщетит (Мф.16:26)? Ничто не приносит столько пользы ближним, как смиренный и непритворный нрав и слово. Таким образом, мы и других будем побуждать, чтобы они не возносились; а что может быть полезнее сего?
- Некто из прозорливцев сказал мне виданное им. «Когда я, — говорил он, — сидел в собрании братии, бес тщеславия и бес гордости пришли и сели при мне по ту и по другую сторону; и первый толкал меня в бок тщеславным своим перстом, побуждая меня рассказать о каком-нибудь моем видении или делании, которое я совершил в пустыне. Но как только я успел отразить его, сказав:…да возвратятся вспять и постыдятся мыслящии ми злая (Пс.39:15); тотчас же сидевший по левую сторону говорит мне на ухо: «Благо же, благо же ты сотворил и стал велик, победив безстыднейшую матерь мою». Тогда я, обратившись к нему, произнес слова, следующие по порядку после сказанного мною стиха: …да возвратятся абие стыдящеся, глаголющии ми: благо же, благо же сотворил еси (Пс.39:16). Потом спросил я того же отца, как тщеславие бывает материю гордости? Он отвечал мне: «Похвалы возвышают и надмевают душу; когда же душа вознесется, тогда объемлет ее гордость, которая возводит до небес и низводит до бездн».
- Есть слава от Господа, ибо сказано в Писании:…прославляющия Мя прославлю…(1Цар.2:30); и есть слава, происходящая от дьявольского коварства, ибо сказано: Горе, егда добре рекут вам еси человецы… (Лк.6:26). Явно познаешь первую, когда будешь взирать на славу, как на вредное для тебя, когда всячески будешь от нее отвращаться, и куда бы ни пошел, везде будешь скрывать свое жительство. Вторую же можешь узнать тогда, когда и малое что-либо делаешь для того, чтобы видели тебя люди.
- Скверное тщеславие научает нас принимать образ добродетели, которой нет в нас, убеждая к сему словами Евангелия:Тако да просветится свет ваш пред человека яко да видят ваша добрая дела (Мф.5:16).
- Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия приключающимся бесчестием.
- Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление безчестия; средина же — отсечение всех помышляемых ухищрений тщеславия; а конец (если есть конец в этой бездне) состоит в том, чтобы стараться делать перед людьми то, что нас уничижает, и не чувствовать оном никакой скорби.
- Не скрывай своих погрешностей12 с мыслию, чтобы не подавать ближнему повода к преткновению; хотя, может быть, не во всяком случае будет полезно употреблять сей пластырь, но смотря по свойству грехов.
- Когда мы домогаемся славы, или когда, без искательства с нашей стороны, она приходит к нам от других, или когда покушаемся употреблять некие ухищрения, служащие к тщеславию, тогда вспомним плач свой и помыслим о святом страхе и трепете, с которым мы предстояли Богу в уединенной нашей молитве; и таким образом, без сомнения, посрамим безстыдное тщеславие, если, однако, стараемся об истинной молитве. Если же в нас нет этого, то поспешим вспомнить об исходе своем. Если же мы и сего помышления не имеем: то, по крайней мере, убоимся стыда, следующего за тщеславием, потому чтовозносяйся непременно смирится (Лк.14:11) еще и здесь, прежде будущего века.
- Когда хвалители наши, или, лучше сказать, обольстители, начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество наших беззаконий; и увидим, что мы поистине недостойны того, что говорят или делают в честь нашу.
- Бывают из тщеславных такие, коих некоторые прошения должны бы быть услышаны Богом; но Бог предваряет их молитвы и прошения, чтобы они, получив через молитву просимое, не впали в большее самомнение.
- Простые же сердцем не очень подвержены отравлению сим ядом; ибо тщеславие есть погубление простоты и притворное жительство.
- Часто случается, что червь, достигши полного возраста, получает крылья и возлетает на высоту: так и тщеславие, усилившись, рождает гордость, всех зол начальницу и совершительницу.
- Неимеющий сего недуга весьма близок ко спасению; а одержимый оным далек явиться от славы святых.
Кого не уловило тщеславие, тот не впадет в безумную гордость, враждующую на Бога.
О безумной гордости
- Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, безчеловечный судия, противница Богу, корень хулы.
- Начало гордости — конец тщеславия; средина — уничижение ближнего, безстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец — отвержение Божией помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав.
- Услышим все, хотящие избежать рва сего: весьма часто сия страсть получает пищу от благодарения, ибо она сначала не склоняет нас безстыдно к отвержению Бога. Видал я людей, устами благодаривших Бога и возносившихся в мыслях своих. О сем ясно свидетельствует фарисей, сказавший:…Боже, благодарю Тя… (Лк.18:11).
- Где совершилось грехопадение, там прежде водворялась гордость; ибо провозвестник первого есть второе.
- Один почтенный муж сказал мне: положим, что есть двенадцать безчестных страстей; если произвольно возлюбишь одну из них, то есть гордость, то и одна сия наполнит место прочих одиннадцати.
- Высокомудрый монах сильно прекословит; смиренномудрый же не только не прекословит, но и очей возвести не смеет.
- Не преклоняется кипарис, и не стелется по земле: так и монах высокосердый не может иметь послушания.
- Высокоумный человек желает начальствовать; да иначе он и погибнуть совершенно не может, или правильнее сказать, не хочет.
- …Бог гордым противится… (Иак.4:6); кто же может помиловать их? Нечист пред Господом всяк высокосердый… (Притч.16:5); кто же может очистить его?
- Наказание гордому — его падение, досадитель — бес; а признаком оставления его от Бога есть умоисступление. В первых двух случаях люди нередко людьми же были исцеляемы; но последнее от людей неисцельно.
- Отвергающий обличение обнаруживает страсть, а кто принимает оное, тот разрешился от уз ее.
- Если от одной этой страсти, безо всякой другой, некто ниспал с неба: то должно исследовать, не возможно ли смирением, и без других добродетелей, взойти на небо?
- Гордость есть потеря богатства и трудов.Воззваша и не бе спасаяй, без сомнения, потому, что взывали с гордостию; воззваша… ко Господу, и не услыша их (Пс.17:42), без сомнения, потому, что не отсекали причин того, против чего молились.
- Один премудрый старец духовно увещевал гордящегося брата; но сей ослепленный сказал ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый же старец возразил: «Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь: я не горд?»
- Таковым весьма полезно повиновение, жестокое и презренное жительство, и чтение о сверхъестественных подвигах святых отцев. Может быть, хотя чрез это, сии недугующие получат малую надежду ко спасению.
- Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и крайнее безумие — гордиться Божиими дарованиями. Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего; а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог, как и самое рождение. Какие ты исправлял добродетели без помощи ума, те только и твои; потому что Бог даровал тебе и самый ум. Какие подвиги показал ты без тела, те только и относи к твоему тщанию; ибо и тело не твое, а творение Божие.
- Не уповай на себя, пока не услышишь последнего о тебе изречения, памятуя, что и без брачных одежд возлежавший уже на брачной вечери был связан по рукам и по ногам и ввержен во тьму кромешную (Мф.22:13).
- Не возвышай выи, перстный; ибо многие, будучи святы и невещественны, были свержены с неба.
- Когда бес гордости утвердится в своих служителях, тогда, являясь им во сне или наяву, в образе светлого Ангела, или мученика, преподает им откровение таинств и как бы дар дарований, чтобы сии окаянные, прельстившись, совершенно лишились ума.
- Если бы мы и безчисленные смерти за Христа претерпели, то и тогда не исполнили бы должного; ибо иное есть кровь Бога, а иное — кровь рабов, по достоинству, а не по существу.
- Если не перестанем сами себя испытывать и сравнивать житие наше с житием прежде нас бывших святых отцев и светил, то найдем, что мы еще и не вступали на путь истинного подвижничества, ни обета своего, как должно, не исполнили, но пребываем еще в мирском устроении.
- Монах, собственно, есть тот, кто имеет невозносящееся око души и недвижимое чувство тела.
- Монах есть тот, кто невидимых супостатов, даже и когда они бежат от него, призывает на брань и раздражает, как зверей.
- Монах есть тот, кто находится в непрерывном восхищении ума к Богу и спасительной печали.
- Монах есть тот, кто имеет такой навык к добродетелям, какой другие к страстям.
- Монах есть непрестанный свет в очах сердца.
- Монах есть бездна смирения, в которую он низринул и в которой потопил всякого злого духа.
- От гордости происходит забвение согрешений, а память о них есть ходатай смиренномудрия.
- Гордость есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете.
- Сия скверная страсть не только не дает нам преуспевать, но и с высоты низвергает.
- Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотою.
- Гордый монах не имеет нужды в бесе; он сам сделался для себя бесом и супостатом.
- Тьма чужда света; и гордый чужд всякой добродетели.
- В сердцах гордых рождаются хульные слова, а в душах смиренных — небесные видения.
- Тать не любит солнца; гордый же уничижает кротких.
- Не знаю, как это бывает, что многие из гордых, не зная самих себя, думают, что они достигли безстрастия, и уже при исходе из сего мира усматривают свое убожество.
- Кто пленен гордостию, тому нужна помощь Самого Бога; ибосуетно для такогоспасение человеческое.
- Некогда я уловил сию безумную прелестницу в сердце моем, внесенную в оное на раменах ее матери, тщеславия. Связав обеих узами послушания и бив их бичом смирения, я понуждал их сказать мне, как они вошли в мою душу? Наконец, под ударами, они говорили: «Мы не имеем ни начала, ни рождения, ибо мы сами начальницы и родительницы всех страстей. Не мало ратует против нас сокрушение сердца, рождаемое от повиновения. Быть кому-нибудь подчиненными мы не терпим; посему-то мы, и на небе пожелав начальствовать отступили оттуда. Кратко сказать: мы родительницы всего противного смиренномудрию; а что оному споспешествует, то нам сопротивляется. Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица нашего? Мы весьма часто следуем за терпением поруганий, за исправлением послушания и безгневия, непамятозлобия и служения ближним. Наши исчадия суть падения мужей духовных: гнев, клевета, досада, раздражительность, вопль, хула, лицемерие, ненависть, зависть, прекословие, своенравие, непокорство. Есть только одно, чему мы не имеем силы противиться; будучи сильно тобою биемы, мы и сие тебе скажем: если будешь искренно укорять себя пред Господом, то презришь нас, как паутину». «Ты видишь, — говорила гордость, — что конь, на котором я еду, есть тщеславие; преподобное же смирение и самоукорение посмеются коню и всаднику его, и со сладостию воспоют победную оную песнь: Поим Господеви, славно бо прославися: коня и всадника вверже в море… (Исх.15:1), и в бездну смирения».
О неизъяснимых хульных помыслах
- Выше сего мы слышали, что от злого корня и злой матери происходит злейшее исчадие, то есть от скверной гордости рождается несказанная хула. Посему нужно и ее вывести на среду; ибо это не маловажное что-нибудь, но самый лютый из наших врагов и супостатов. И, что еще ужаснее, мы не можем без затруднения сказать, открыть, исповедать врачу духовному сии помыслы. Посему они часто многих повергали в отчаяние и безнадежность, истребив всю надежду их, подобно червю в дереве.
- Часто во время Божественной Литургии, и в самый страшный час совершения Таин, сии мерзкие помыслы хулят Господа и совершаемую Святую Жертву. Отсюда явно открывается, что сии нечестивые, непостижимые и неизъяснимые слова внутри нас не душа наша произносит, но богоненавистник бес, который низвержен с небес за то, что и там хулить Бога покушался. И если мои сии безчестные и нелепые изречения, то как же я, приняв оный небесный Дар, поклоняюсь? Как могу благословлять и в то же время злословить?
- Часто сей обольститель и душегубец многих приводил в исступление ума. Никакой помысл не бывает так трудно исповедать, как сей; посему он во многих пребывал до самой старости, ибо ничто так не укрепляет против нас бесов и злых помыслов, как то, что мы их не исповедаем, но таим и питаем их в сердце.
- Никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах; ибо Господь есть Сердцеведец и знает, что такие слова не наши, но врагов наших.
- Пьянство бывает причиною преткновения, а гордость — причина непотребных помыслов. Хотя преткнувшийся неповинен за преткновение, но за пьянство, без сомнения, будет наказан.
- Когда мы станем на молитву, то сии нечистые и неизрекаемые помыслы восстают на нас, а по окончании молитвы тотчас от нас отходят; ибо они не имеют обыкновения бороться с теми, которые против них не вооружаются.
- Безбожный сей дух не только хулит Бога и все Божественное, но и слова срамные и безчестные произносит в нас, чтобы мы или оставили молитву, или впали в отчаяние.
- Сей лукавый и безчеловечный мучитель многих отвлек от молитвы; многих отлучил от Святых Таин; некоторых тела изнурил печалию; иных истомил постом, не давая им ни малейшей ослабы.
- Он делает это не только с мирянами, но и с проходящими монашескую жизнь, внушая им, что для них нет никакой надежды ко спасению и что они окаяннее всех неверных и язычников.
- Кого дух хулы безпокоит и кто хочет избавиться от него, тот пусть знает несомненно, что не душа его виновна в таких помыслах, но нечистый бес, сказавший некогда Самому Господу:…сия вся Тебе дам, аще пад поклонишимися (Мф.4:9). Посему и мы, презирая его и вменяя за ничто влагаемые им помыслы, скажем ему: Иди за мною сатано: Господу Богу моему поклонюся и Тому единому послужу; болезнь же твоя и слова твои обратятся на главу твою, и на верх твой снидет хула твоя в нынешнем веке и в будущем (Пс.7:17).
- Кто другим образом хотел бы победить беса хулы, тот уподобился бы покушающемуся удержать своими руками молнию. Ибо как настигнуть, состязаться и бороться с тем, который вдруг, как ветер влетает в сердце, мгновенно произносит слово и тотчас исчезает? Все другие враги стоят, борются, медлят и дают время тем, которые подвизаются против них. Сей же не так: он только что явился — и уже отступил; проговорил — и исчез.
- Бес этот часто старается нападать на простейших по уму и незлобивейших, которые более других безпокоятся и смущаются от сего; о них можно сказать по справедливости, что все сие бывает с ними не от превозношения их, но от зависти бесов.
- Перестанем судить и осуждать ближнего, и мы не будем бояться хульных помыслов; ибо причина и корень второго есть первое.
- Как затворившийся в доме слышит слова проходящих, хотя сам с ними и не разговаривает: так и душа, пребывающая в себе самой, слыша хулы дьявола, смущается тем, что он, проходя мимо13 нее, произносит.
- Кто презирает сего врага, тот от мучительства его освобождается; а кто иным образом ухищряется вести с ним борьбу, тем он возобладает. Хотящий победить духов словами подобен старающемуся запереть ветры.
- Один тщательный монах, претерпевая нападения от сего беса, двадцать лет изнурял тело свое постом и бдением; но как никакой не получал от сего пользы, то, описав на бумаге свое искушение, пошел к некоему святому мужу и, вручив ему оную, повергся лицом на землю, не дерзая воззреть на него. Старец, прочитав писание, улыбнулся и, подняв брата, говорит ему: «Положи, чадо, руку твою на мою выю». Когда же брат оный сделал это, великий муж сказал ему: «На вые моей, брат, да будет грех сей, сколько лет он ни продолжался и ни будет продолжаться в тебе; только ты вменяй его за ничто». После инок сей уверял, что он еще не успел выйти из келлии старца, как эта страсть исчезла. Сие поведал мне сам бывший в искушении, принося благодарение Богу.
Кто одержал победу над сею страстию, тот отринул гордость.
Иеромонах Амвросий (Ермаков). Из поучений Святителя14 Иоанна Златоуста
Более всех страстей препятствует спасению человека гордость. Как говорит свт. Иоанн Златоуст, все самые большие бедствия в истории сотворенного Богом мира всегда имели своим началом гордость. Из-за нее светлый ангел стал дьяволом. Адам, обольщенный ложной надеждой быть равным Богу, был изгнан из Рая и сделался смертным. Дальнейшая история человечества показывает, что всякий раз, когда человек горделиво мечтал о равенстве с Богом, он впадал в нечестие. Святой отец не знает ничего более несвойственного христианской душе, чем гордость, и никого, более несчастного, чем человека, зараженного этой болезнью.
Гордость — это воспаление души, корень и источник всякого нечестия, вершина зла; страсть, делающая человека орудием дьявола и подвергающаяся одинаковому наказанию с падшим ангелом.
Порок гордости не позволяет никакой добродетели прижиться в душе человека и оказать свое спасительное действие. В качестве примера святитель приводит притчу о мытаре и фарисее (Лк.18:9-14) и говорит: «Фарисей, постившийся дважды в неделю, не был ли праведным? А что он говорит? Несмь, якоже прочии человецы, хищницы, неправедницы (Лк.18:11). Нередко человек с чистой совестью впадает в гордость; и если не повредит ему грех, то вредит гордость».
Гордость лишает человека надежды на спасение. Духовная жизнь христианина должна сопровождаться познанием себя и «своей немощи». Гордость же лишает человека духовного видения и такого познания. Тем более она закрывает ему возможность познания Бога.
Ничто так не противится любви, как гордость. Она порождает гнев, славолюбие, зависть, ревность, презрение к бедным, страсть к деньгам, месть и многие другие пороки.
Эта страсть постоянно волнует душу человека и делает его неспособным к перенесению обид и несчастья.
Святой Иоанн дает такое определение этой губительной страсти: «Считать себя лучше подобных себе — гордость». Св. Златоуст говорит, что гордость является отличительным знаком недалекого ума и неблагородной души. Он считает, что грех гордости хуже блуда, и объясняет: «Потому что, хотя блуд и непростительное зло, но, по крайней мере, иной человек может сослаться на (непреодолимое — ред.) желание; а высокомерие не имеет никакой причины, никакого предлога». Святитель говорит так же, что лучше быть глупым, чем гордым. Глупость является злом для самого глупого, а гордость — язвой для других людей.
Гордость может действовать тонким, незаметным для взгляда неопытного в духовной жизни человека образом. Так, например, она скрытно проявляет себя тогда, когда человек не терпит надменности другого человека, зараженного гордостью.
Своим началом эта страсть имеет неведение Бога. Утверждая это, святитель поясняет: «Кто знает Бога так, как нужно знать, кто знает, до какой степени Сын Божий смирил Себя, тот не превозносится, а кто не знает этого, тот превозносится».
Источниками гордости могут быть также знания и дарования, не соединенные с любовью. Например, христиане Коринфской Церкви времен святого апостола Павла превозносились друг перед другом своими духовными дарованиями и соревновались между собою в знаниях философии. Гордость, заразившая их души, произвела в Церкви многочисленные нестроения.
Страсть гордости не имеет насыщения и не может быть никогда удовлетворена. «Если бы гордый даже видел, что царь униженно преклоняется и благоговеет перед ним, — говорит Иоанн Златоуст, — то и тогда не удовлетворился бы этим, но еще более воспламенился бы». Особо желанной пищей для гордости являются «власть и величие господства». Для того, чтобы не заразиться этой страстью, святитель советует избегать надменных людей, отвращаться от них, гнушаться и даже ненавидеть их. Святитель Иоанн, конечно, говорит о ненависти не к человеку, а ко греху, носителем которого является такого рода человек.
В борьбе с гордостью христианин должен вооружиться противоположной этой страсти добродетелью смирения, умножая которую собственным подвигом при содействии благодати Святого Духа, он сможет победить гордость и обогатиться многими другими добродетелями.
Протоиерей Александр Шмеман. Возвышающий себя, унижен будет…15
Одна из главных, единственных в своем роде особенностей Евангелия — это те короткие рассказы-притчи, которыми пользуется Христос в Своем учении, в Своем общении с народом. Поразительно же в этих притчах, что, сказанные почти две тысячи лет тому назад, в совершенно отличных от наших условиях, в другой цивилизации, на абсолютно другом языке, они остаются актуальными, бьют сегодня в ту же цель. А это значит — в наше сердце.
Ведь вот, устарели, забыты, канули в небытие книги и слова, созданные совсем недавно, вчера, позавчера. Они уже ничего не говорят нам, они мертвы. А эти, такие простые с виду, безхитростные рассказы живут полной жизнью. Мы слушаем их — и как будто что-то происходит с нами, как будто кто-то заглянул в самую глубину нашей жизни и сказал что-то — только к нам, ко мне относящееся.
В этой притче — о мытаре и фарисее — рассказывается о двух людях. Мытарь — это славянское слово для обозначения сборщика налогов, профессии, окруженной в древнем мире всеобщим презрением.
Фарисей — это название правящей партии, верхушки тогдашнего общества и государства. На нашем теперешнем языке мы сказали бы, что притча о мытаре и фарисее — это символический рассказ о важном представителе ведущего слоя (фарисей), с одной стороны, о мелком и малопочтенном «аппаратчике» (мытарь) — с другой. Христос говорит: Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне, грешному!» Говорю вам, — заканчивает Христос эту притчу, — что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Всего три строчки в Евангелии, а сказано в них нечто вечное, такое, что действительно относится ко всем временам и ситуациям.
Но возьмем только наше время, возьмем самих себя. Если что-нибудь лежит в основе нашей государственной, общественной, да, наконец, и частной жизни, так это — не правда ли? — вот это самое безостановочное самопревозношение, самоутверждение, или, говоря более древним, но опять-таки вечным языком — гордыня. Вслушайтесь в пульс нашей эпохи. Неужели не поразимся мы этой чудовищной саморекламе, хвастовству, безстыдству самовосхваления, которые так вошли в нашу жизнь, что мы уже почти не замечаем их.
Всякая критика, пересмотр, переоценка, всякое проявление смирения — не стали ли они уже не только недостатком, пороком, а хуже того, — общественным и даже государственным преступлением.
…Проанализируйте свою жизнь, жизнь своего общества, самые основы его устройства, и вы должны будете признать, что это именно так. Тот мир, в котором мы живем, так пронизан оглушительным и грубым бахвальством, что уже сам этого больше не заме чает, оно уже стало его природой.
…Самое страшное, конечно, в том, что фарисейство признается добродетелью. Нас так долго, так упорно глушили славой, достижениями, взлетами и полетами, нас так долго держали в атмосфере этого призрачного псевдовеличия, что все это в действительности нам стало казаться хорошим и благим, что в душе целых поколений возник образ мира, в котором только сила, только гордость, только безстыдное самовосхваление оказываются нормой.
Пора ужаснуться этому, вспомнить слова Евангелия: всякий, возвышающий себя, унижен будет. Сейчас тех немногих, кто исподволь, шепотом говорит об этом, напоминает об этом, влекут в суды или заключают в психиатрические лечебницы. И на них науськивают других: смотрите на этих изменников и предателей! Они против величия и силы своей родины! Против ее достижений! Они сомневаются в том, что самая лучшая, самая сильная, самая свободная, самая счастливая страна… и так дальше. И благодарите, что вы не такие, как эти несчастные отщепенцы.
Но поймем, что этот бой, этот спор, ведомый сейчас ничтожным меньшинством, — это бой и спор о самих духовных источниках жизни. Ибо фарисейская гордыня — это не только слова. Она рано или поздно оборачивается ненавистью к тем, кто не согласен признать мое величие, мое совершенство. Она оборачивается преследованьем и террором. Она ведет к смерти. Притча Христа ножом врезается в самую страшную опухоль современного мира — в опухоль фарисейской гордыни. Ибо, пока эта опухоль будет расти, в мире будут царить ненависть, страх и кровь. И так оно и есть сейчас. Только вернувшись к этой забытой, презираемой, отбрасываемой силе — к смирению, можно очистить мир. Ибо смирение — это признание другого, это уважение к другому и это уменье мужественно признать себя несовершенным, раскаяться и тем самым встать на путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы фарисейства — к свету и целостности подлинной человечности: к правде, к смирению и к любви. Вот призыв этой притчи Христовой, вот зов, первый зов великопостной весны.
Архимандрит Лазарь. Гордыня склоняется к учительству 16
(Полезно ли начинающему христианину учить ближних делам веры)
На почве недуховной ревности по гордости, тщеславного разгорячения, самомнения часто возрастает страсть к учительствованию. Стало обычным в наше время каждому наставлять и нравоучать ближнего, хотя очень часто учителями становятся те, кто сам еще не сделал даже нескольких шагов в христианскую жизнь, а только заглянул в нее через приоткрытую дверь. Как часто теперь бывает, что человек, проведший всю жизнь в неверии и грехах, после того как покаялся и несколько переменил образ жизни, несколько раз сходил в церковь или пробыл несколько дней в монастыре, узнал некоторые законы и воззрения христианские, ознакомился с некоторыми правилами и порядками церковными, — незаслуженно этим возгордился — и тут же начинает учить, обличать своих близких — друзей, родственников, упрекать их в неверии, в нецерковности, даже обвинять их в служении сатане и т. п. Часто наблюдаются такие случаи, что этот новообратившийся, начавший исправлять близких, усиленно обращать их к вере, спасать их души, сам вскоре претыкается, падает и возвращается к прежней греховной жизни. А те, кого он обличал, видя его в таком жалком состоянии, приписывают самому христианству безполезность и немощность, еще более отвращаются от Церкви, от Бога.
Большинство из нас как только прочитает что-либо поучительное или подметит какую-либо интересную мысль, рассуждение из духовных книг, сразу же спешит преподнести это ближнему в науку, вразумить его, торопится дать совет применить то или иное правило из отцов, хотя сами мы еще не пользовались этими правилами и не собираемся пользоваться.
Как часто теперь уверовавшие не живут верой, а только уразумевают отдельные моменты христианской науки, перетолковывают их, сообщают ближнему, сами так и не воспользовавшись этим богатством. Как теперь распространено такое явление: вся религиозная жизнь у человека и начинается и заканчивается только в голове, не доходя до сердца; входят религиозные познания через слух, через разум, вращаются в уме, пересматриваются, переосмысливаются, часто переделываются на свой лад и тут же через язык выносятся наружу, выдаются окружающим как бы нечто взятое из действительного духовного опыта, из самой жизни. Но такое знание, не испытанное, не выстраданное деятельной жизнью, борьбой, — пустое. Человек, поучающий не из духовного опыта, а из книжного знания, по слову Исаака Сирианина, подобен художнику, который, обещая воду жаждущему, пишет ее красками на стене. Беда еще и в том, что преждевременно посвятивший себя учительствованию остается сам без плода, увлечение это становится сильным препятствием к тому, чтоб заниматься собой, видеть себя, свои немощи, искать собственного уврачевания.
Опять же, в основе такого неправильного учительствования лежат тщеславие, самомнение, самоцен, гордость ума. Так же могут действовать склонность к праздности, стремление уклониться от тяжкого труда внутренней борьбы с собой и подменить эту работу легким — вразумлять других. Весь мир всегда был болен и сейчас болен этой страстью. Все мало-мальски выдающиеся умом личности всегда стремились учить и обращать всех к своим измышлениям; все философы, религиозные мыслители, ересеначальники старались усиленно распространять свои ереси; каждая религиозная секта желает всех, кого можно, вовлечь в свои сети. Значит, может быть множество безблагодатных стимулов, позывов к тому, чтоб проповедовать и вовлекать других в свою веру. Поэтому-то мы и не должны доверять этим нашим внутренним «ревностным» порывам — обращать всех на путь истинный, как это совершали благодатию Божией святые апостолы и святые отцы — светильники Церкви. Очень может быть, что это злые страсти, таящиеся в нас, подущают нас перенести заботы о спасении своей души на заботы о спасении других, и таким образом они получают возможность иметь вольное пребывание в нашем сердце и, спасая других, мы можем погибать. Не мнози учители бывайте, братие моя, ведяще, яко большее осуждение приимем, — говорит апостол Иаков (Иак.3:1).
Вот что говорят об этом святые отцы. Один старец сказал: «Не начни учить преждевременно, иначе во все время жизни твоей пребудешь недостаточным по разуму».
Авва Пимен Великий: «Учить ближнего столько же противно смиренномудрию, как и обличать его».
Авва Исаия сказал: «Опасно учить ближнего преждевременно, чтоб самому не впасть в то, от чего предостерегается ближний учением. Впадающий в грех не может научать тому, как не впадать в него».
Он же: «Стремление учить других, по признанию себя способным к этому, служит причиною падения для души. Руководствующиеся самомнением и желающие возводить ближнего в состояние безстрастия приводят свою душу в состояние бедственное. Знай и ведай, что, наставляя ближнего твоего сделать то или другое, ты действуешь как бы орудием, которым разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего».
Исаак Сирианин: «Хорошо богословствовать ради Бога, но лучше сего для человека соделать себя чистым для Бога. Лучше тебе, будучи ведущим и опытным, быть косноязычным, нежели от остроты ума своего, подобно реке, источать учения. Полезнее для тебя позаботиться о том, чтобы мертвость души твоей от страстей воскресить движением помыслов твоих к Божественному, нежели воскрешать умерших.
Многие совершали чудеса, воскрешали мертвых, трудились в обращении заблудших и творили великие чудеса, руками их многие приведены были к богопознанию, и после всего этого сами, оживотворявшие других, впали в мерзкие и гнусные страсти, умертвили самих себя и для многих сделались соблазном, когда явны стали деяния их, потому что были они еще в душевном недуге и не заботились о здравии душ своих…»
«Даже то, если ты, искупив сотни рабов христиан из рабства у нечестивых, дашь им свободу, не спасет тебя, если ты при этом сам пребываешь в рабстве у страстей».
«Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на других изливать свет просвещения разума».
«Благовествование и проповедь не есть не только первый, но и хоть бы какой-нибудь долг всякого верующего. Первый долг верующего — очистить себя от страстей…».
«Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом…».
«…Но для совета, для руководства недостаточно быть благочестивым, надо иметь духовную опытность, а более всего духовное помазание…».
«Если же человек прежде очищения истиною будет руководствоваться своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живет не простое добро, но добро, смешанное со злом более или менее».
Авва Исаия говорил: «Откуда могу знать, угоден ли я Богу, чтоб сказать брату, поступи так или иначе. Сам нахожусь еще под игом покаяния по причине грехов моих».
«Добрые чувства молчаливы. Излияния чрез слова ищут более чувства эгоистические, чтоб высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может выказать нас, как нам мнится, с лучшей стороны».
«Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной, потому что, по слову апостола, каждый из нас сам о себе воздает слово Богу. У нас же путаница оттого и происходит, что мы все более склонны к вразумлению других и стараемся не только убедить, но и разубедить и доказать многоразличными аргументами…»
«Еще не успел я начать подвигов благочестия, а уже заразился тщеславием. Еще не успел вступить в преддверие, а уже мечтаю о внутреннем святилище. Еще не положил начатков жизни богоугодной, а уже ближних моих обличаю. Еще не узнал, что есть истина, а хочу быть наставником других. Душа моя! Все даровал тебе Господь — смысл, разум, ведение, рассуждение, познай же полезное для тебя. Как мечтаешь ты сообщать свет другим, когда ты сама погружена еще во тьму? Врачуй прежде самое себя, а если не можешь, то оплакивай слепоту свою».
Итак, как видно из слов святых отцов, поучать, руководить, наставлять — дело полезное не для каждого, хотя и представляется таким славным и похвальным. Углубляться же в познание своих немощей, искать их врачевания — дело первейшей важности для всех.
Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. О гордости и смирении17
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
На пути нашего с вами, возлюбленные братья и сестры, восхождения по ступеням духовного совершенства часто встречается то, что препятствует этому восхождению, прежде всего это наши грехи, и основной из них, которым одержимы почти все мы без исключения, — это грех самопревозношения, или грех гордости. Это очень коварный змий, который, прокравшись в наши сердца, подчас даже представляется нам ангелом света, и мы сладостно внимаем его лукавым советам, не понимая, что они отлучают нас от Божественной любви, удаляют от союза с Богом. И, как неразумные овцы, бываем мы уловляемы злокозненным змием гордыни и ведомы на заклание.
Гордость — это великий грех. Этот грех некогда низвел с высоты славы светлого ангела и превратил его в противника Богу, в злого демона, в сатану. Гордость низвела сатану с небес и низвергла его в бездну погибели. Но не только этого некогда светоносного ангела низвергла гордыня, она низвергла и многих «даже избранных» людей Церкви Божией.
Возьмем, к примеру, Ария, который служил Богу в сане пресвитера Александрийской Церкви. Он был человеком ревностным, но допустил гордыню и стал мудрствовать о Христе не так, как положено. Наученный диаволом, он стал думать о Сыне Божием не как о Творце, но как о твари, впав в заблуждение. И сколько ни увещевали Ария и тогдашний Патриарх Александрийский Александр, и другие благочестивые епископы, но он не хотел даже слушать их. И не только не хотел, но еще собрал около себя людей, соблазнив их своим лживым учением.
Вот, возлюбленные братья и сестры, к чему может привести людей гордость! Факты свидетельствуют, что и многие подвижники, жившие в пустынях, совершавшие множество подвигов духовных, допуская злокозненного змия — самомнение, самопревозношение и тщеславие, низвергались в бездну погибели. Они прельщались собственной «святостью», и истинным рабам Божиим приходилось прилагать немало сил, чтобы исцелить впавших в превозношение подвижников. Но подчас все эти врачевства не приносили никакой пользы, потому что, впав в прелесть, человек по-настоящему лишается здравого рассудка и все видит в ином, искаженном свете. Ему кажется, что он справедлив и ничего плохого не делает. И если такому человеку кто-либо попытается указать на его прегрешения — обольщенный гордец никогда не согласится, что он может допускать грехи. Нет, ответ его будет один: он всегда прав, а виноваты другие, но никак не он.
Вот к чему приводит, возлюбленные братья и сестры, гордость. В состоянии самопревозношения человек никогда не преуспеет на спасительном пути, на пути духовного восхождения. И если даже он прежде сумел подняться на самую, может быть, высшую ступень духовного совершенства, даже тогда возникшая гордость не даст ему удержаться на этой высоте, низвергнув на землю, низвергнув так, что трудно будет ему подняться.
Единственным противоядием гордости является смирение. Это величайшая добродетель, которая, несомненно, способствует нам с вами на пути духовного восхождения. Смирение многих привело к спасению. И этой величайшей добродетели обучались все подвижники благочестия, ибо они хорошо понимали, что без смирения невозможно угодить Богу.
Вот пред нами великий подвижник Арсений. Когда Господь внушил ему оставить суетный мир (а Арсений занимал очень почетную должность: находился при царском дворе и был воспитателем царских детей), голос Божественный сказал ему: «Беги от людей, и ты спасешься». Арсений внял этому Божественному слову и удалился в египетскую пустыню, к старцам. Когда великие подвижники увидели пришедшего к ним мирянина, то пожелали испытать его: способен ли он на подвиги пустынножительства, на подвиги монашества? Они поручили Арсения преп. Иоанну Колову. И сей великий подвижник применил такое испытание: когда настало время обеда, все старцы сели за трапезу и стали вкушать пищу, Арсений же стоял в углу трапезной и наблюдал. Тогда преп. Иоанн взял сухарь и бросил его Арсению на пол. И что же Арсений? Он поразмыслил так: сидящие за столом добродетелями своими подобны ангелам небесным, я же грехами — подобен псу, и, следовательно, как псу, мне подобает подойти к сухарю и вкусить так, как вкушают животные. Он опустился на четвереньки, взял этот сухарь ртом и стал, как пес, его пожирать. Преп. Иоанн и старцы стали между собой рассуждать и сказали, что сей — поистине смиренный муж и он совершит великие подвиги благочестия. Преп. Иоанн Колов отвел его в келью и научил монашескому житию. И действительно, со временем великий Арсений исполнился благодати Духа Святаго.
Это я вам привел пример из жизни пустынножителей. А теперь расскажу, как люди, жившие в миру, достигали такой высоты духовного смирения.
Однажды преп. Антонию Великому был голос, который говорил ему: «Антоний, ты не достиг той меры духовного совершенства, как некий кожевник, проживающий в Александрии». Тогда преп. Антоний, который старался впитать в свое сердце все добродетели, совершаемые не только пустынножителями, но и вообще всяким христианином, оставил пустыню и по указанию Божественному нашел дом, где проживал кожевник. Итак, входит он в этот дом, кланяется кожевнику и говорит: «Скажи мне, Божий раб, какие ты подвиги совершаешь здесь, живя в миру, ибо я ради тебя пришел, оставив пустыню. Расскажи мне, как ты совершаешь дело своего спасения?» Удивился смиренный раб и ответил: «Авва, ну какие я могу совершать подвиги в миру?! Скажу правду, что я почти ничего доброго не совершаю! Каждый раз, когда встаю от ночного одра и иду на работу, я размышляю так: Господи, все в этом городе спасутся, потому что они делают правые дела, а я один, как нечестивый, погибну. Помилуй мя, Боже! И так я молю Господа в течение дня, и когда отхожу ко сну, также размышляю, что все удостоятся Царствия Божия и только один я буду лишен этой славы».
Удивился великий Антоний и, поклонившись кожевнику, сказал: «Поистине ты, как добрый ювелир, сидящий в комнате и обретающий Царство Божие. Я много лет подвизаюсь в пустыне, прилагаю труды к трудам, посты к постам, воздержание к воздержанию, но я еще не достиг такого состояния духа, какого достиг ты, раб Божий».
Вот, возлюбленные братья и сестры, пример того, как и в миру можно угождать Богу смиренномудрием.
Многие из вас могут подумать: ну что тут особенного — помыслить, что все добрые, а мы вот только плохие? Действительно, произнести в мыслях такие слова легко, не требуется здесь от нас особых подвигов. А вот прийти в настоящее сознание самих себя, сердцем осознать, что мы находимся в рабстве у греха,— это уже дело великое. Но если мы люди грешные, то можем ли мы кого-либо осуждать, или кому-либо досаждать, или прекословить, или возражать и тем более гневаться? Конечно, нет, возлюбленные братья и сестры, и в этом-то и заключается величие смирения. Если мы осознаем это, если постараемся отвергнуть гордыню, воспринять настоящее смирение, то, поверьте, мы, несомненно, преуспеем на спасительном пути.
Итак, с помощью Божией станем утверждать в своем сердце добродетель за добродетелью и, восходя по ступеням духовного совершенства, восходить горе и достигать вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем, Которому со Отцем и Святым Духом подобает честь и слава во веки веков. Аминь.
***
Гордость — болезнь духа
Протоиерей Иоанн (Восторгов)
Уроки врачевания гордыни (советы святых Отцов)
Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.
Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
Евангелие от Иоанна, гл. 13, ст. 1–17
Преподобный Ефрем Сирин. Уроки жизни: восемь злых помыслов18
Если хочешь победить тщеславие, не люби похвал, ни почестей, ни хороших одежд, ни первоседания, ни предпочтения, а, напротив того, люби, чтобы порицали и безчестили тебя, возводя на тебя ложь, — и укоряй сам себя, что ты грешнее всякого грешника.
Если хочешь победить гордость, что ни делаешь — не говори, что делается сие собственными твоими трудами или собственными твоими силами; но постишься ли, проводишь ли время в бдении, спишь ли на голой земле, поешь ли псалмы, или прислуживаешь, или кладешь много земных поклонов — говори, что при Божией помощи и при Божием покровительстве делается сие, а не моею силой и не моим старанием.
Схиигумен Иоанн (Алексеев), старец Валаамского монастыря. Письмо с Нового Валаама 19
Некий мудрый старец увещевал гордящегося брата, но тот ответил ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый старец возразил ему: «Чем же ты яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь: «Я не горд».
Да, гордость слепа, сама себя не видит. Гордость — изобретение дьявольское. Вот исчадия ее: гнев, клевета, раздражительность, лицемерие, ненависть, прекословие, непокорность. Крепко настаивает она на своем мнении, трудно подчиняется другим, замечаний не терпит, любит делать замечания другим; слова выбрасывает не осмысленно. Она не имеет терпения, чужда любви, дерзка для нанесения оскорблений, стремится к власти. Гордые очень страдают хульными помыслами и склонны к самообожанию.
Теперь скажу о смирении. О блаженное смирение, ты — Божественно, ибо приклонило небеса, и воплотилось в человечество, и грехи всего мира пригвоздило ко Кресту. Душа моя трепещет — как я могу сказать что-либо о величии твоем!
Богомудрые Святые Отцы вот что говорят о смирении. От него происходят: кротость, приветливость, удобоумиление, милосердие, тихость, благопокорность. Смиренный не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый хочет исследовать глубину судеб Господних. Смиренный не хвалится природными дарованиями и гнушается людскими похвалами: как одетый в шелковую одежду, если на него брызнуть дегтем, отбегает, чтобы не запачкать своей дорогой одежды, так и смиренный убегает от человеческой славы. Свойство смирения — видеть свои грехи, а в других — добрые качества. Свойство гордости— видеть в себе только хорошее, а в других только худое.
Вот еще черта смирения: простота, откровенность и естественность. А что такое смирение и как оно рождается в душе, никто не может объяснить словами, если человек не научится этому из опыта. Из одних слов нельзя ему научиться.
Авва Зосима говорил о смирении. Его слушал ученый софист и спросил: «Как же ты считаешь себя грешным? Разве ты не знаешь, что ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди, — и считаешь себя грешным?» Старец же не находил, что сказать, только говорил: «Не знаю, что сказать тебе, но я считаю себя грешным». Софист настаивал, желал узнать, как сие может быть. И снова старец не нашелся, что сказать, отвечал со своей святою простотой: «Не смущай меня—я подлинно считаю себя таким».
Тут находился авва Дорофей, и он объяснил софисту, что как в науках бывает некоторый навык, и человек, обладающий им, не может объяснить, как он это делает, так и в смирении. Авва Зосима обнял авву Дорофея и сказал: «Ты постиг дело, оно так бывает, как ты сказал». Софист остался доволен и согласился с ними.
22 ноября 1955 года, Новый Валаам
Схиигумен Савва. Уныние и отчаяние20
Гордость — это самый лютый, самый жестокий враг из всех наших врагов невидимых. Помимо всех несчастий, она рождает хулу на Бога и повергает душу в уныние и отчаяние.
Хульные помыслы обычно стыдятся исповедать духовному отцу, утаивают их и носят в сердце своем целыми десятилетиями. Это многих повергает в отчаяние и безнадежность. Но именно в этом и заключается ошибка христианина.
Уныние, и тем более отчаяние, есть признак малодушия, признак того, что душа неопытна в духовной жизни, в духовной брани; признак того, что человек не знает или забывает о том, сколь милосерд и любвеобилен Господь.
Не дай Бог поддаться духу уныния! От уныния до отчаяния один шаг. Избави, Господи!
Никогда не забывай, что злая сила, когда приводит душу ко греху, тогда показывает ей Божеское милосердие и снисхождение, а когда человек впадает в грех, тогда запугивает его строгостью и правосудием Божиим, чтобы ввергнуть в отчаяние и безпрерывную печаль. А ты знай его хитрость и делай наоборот: когда представится случай ко греху, сразу вспомни о правосудии Божием и о строгости наказания, а когда согрешишь, тогда скорее кайся, помышляя о милосердии Божием, но только не отчаивайся.
Мужественные и твердые духом не отчаиваются в искушениях, каковы бы они ни были, но мужественно борются с ними или терпеливо ожидают конца их и только усиливают молитвы, чаще читают книги житий и поучений святых отцов, чаще ходят в церковь, исповедуют свои грехи и причащаются Святых Христовых Таин.
В этом случае дьявол скоро оставляет подвижника, и искушение проходит. Так и ты делай. И будь уверен, что Господь простит тебе всякий грех, только не унывай, а чистосердечно раскаивайся в нем.
Нам ли, христианам, отчаиваться? Каждый из нас должен хорошо-хорошо уяснить себе такую истину, что если бы Правосудию Божию потребовалась вторая Крестная Жертва для спасения единого грешника, то Христос с радостью и любовью восшел бы опять на Крест, чтобы избавить этого грешника от мук, и перенес бы за него лютейшие страдания и муки. Ты думаешь, это преувеличение? Нет, мой друг! Размысли сам… Представь, как нам бывает тяжело в присутствии человека, который и одет в зловонную, отвратительную одежду, и сам такой грязный, что прикоснуться к нему страшно. Даже когда он на расстоянии от нас — и то вызывает в нас неприятное ощущение брезгливости. И даже когда близкий, любимый родственник (ну, например, супруга, родители, дети) обнимает, целует, а изо рта у него исходит ужасный запах… Ух, как неприятно! Затаиваешь дыхание, чтобы не обонять зловоние. Так и хочется скорее оттолкнуть такого человека, скорее освободиться от его присутствия, чтобы он не портил настроение, чтобы легче можно было вздохнуть без него.
А ведь перед Святейшим и Чистейшим Господом мы еще более грязны и зловонны, но Он нас не отталкивает, а, наоборот, Сам призывает нас к самому близкому и тесному общению с Собою, предлагая Себя в снедь в Пречистых Тайнах. Грехи наши прощает, которые мы исповедуем; очищает и убеляет душу, а те грехи, которые остаются на душе нераскаянными по забвению и смердят своим зловонием, Господь терпит… Да, да! Мучается, задыхается, но терпит…
Мы Его огорчаем, распинаем, а Он терпеливо ждет, когда же мы опомнимся, наконец! Мы всю жизнь мучаем Его, а Он готовит нам райскую обитель в Царстве Своем, ожидая нашего исправления хотя бы при конце жизни…
Что можно еще сказать? Чем можно дополнить эту яркую, животрепещущую картину?..
Радуйся, что для смирения твоего Господь попустил тебе познать горечь греха и не припомнит тебе его, если после покаяния не возвратишься к нему опять. Теперь ты, умудренный опытом жизни, с большим чувством, с большей любовью будешь благодарить Бога за избавление от греха, а память греха и смерти будет держать тебя в постоянном спасительном чувстве смирения и кротости.
Митрополит Антоний Сурожский. Бойтесь мнимой праведности21
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Мы привыкли презирать и осуждать фарисея: нам кажется, что сегодняшнее Евангелие дает нам на это право — он осужден Самим Христом. Но мы забываем, что надменная праведность фарисея стоила дорого ему и подобным ему людям. Это были люди подвига и убеждения; по коротким словам, которые о нем сказаны в Евангелии, он постится дважды в неделю, то есть воздает Богу не только то, что должен бы воздавать по закону, но больше, сверх меры: он дает Богу от своего усердия. И одновременно он дает значительную часть своего дохода нуждающимся, то есть и к людям тоже он обращен каким-то, хоть и суровым, подвигом жизни. Поэтому нельзя легко судить о нем. Фарисеи были люди, которые были готовы понести тяготу своего подвига; но разбивался этот подвиг о правду Божию на том, что из своего подвига они черпали сознание какой-то мнимой праведности, а любви не достигали.
Вот он вошел в храм, не остановился у притолоки, не вспомнил, что находится в храме Бога Живого, что нет твари, которая не должна бы пасть перед Ним в трепете, в ужасе, в любви. Он пришел твердым шагом и занял свое место в храме — он на это место «имеет право»; он живет достойно, по правилам Церкви, и потому стоит он там, где имеет право стоять.
Разве это не страшно и не осуждающе похоже на нас? Как часто мы знаем, что у нас есть перед Богом, среди людей место и что есть у нас место, я не говорю — в вещественном храме, но в том таинственном, незримом храме, который есть мироздание, трепетно собранное вокруг Живого Бога своего. Мы тоже часто думаем: «Мое место — тут, а его — там».
А «там» стоял человек, который по суду людскому действительно не имел никакого пути вперед, в передние ряды праведников Господних. Он был собирателем податей, но как он отличался от современных! Он просто был прислужником оккупантов-римлян, которые поработили народ израильский, всячески его притесняли и искали в его же среде таких людей, которые будут только заниматься побором, собирать с них дань. И конечно, такие люди были всеми ненавидимы, потому что законом их жизни было вымогательство, была твердость, было принуждение, была безпощадность.
Но одному — видно этот мытарь научился в той страшной, жестокой жизни, которую он вел среди себе подобных и среди жертв ожесточения людского — он научился, что не выжить человеку в страшном человеческом обществе, если хотя бы на мгновение не будет приостанавливаться закон, если хотя бы на мгновение не будет проявляться жалость, милосердие. Если все будет идти по писанному, если все будет делаться так, как по праву можно поступать, то ни один человек не уцелеет.
И вот он стал позади всех у притолоки, зная, что по правде людской и по правде Божией он заслуживает ту же безпощадную жестокость, какую он сам применяет изо дня в день; и он стал там, бия себя в грудь, ибо знал, что заслужить никакого милосердия нельзя, — милосердие не заслуживается, никакого милосердия купить нельзя, ни быть достойным его нельзя — его только вымолить можно; оно может прийти как чудо, как непонятное, совершенно неожиданное чудо, когда праведность склоняется перед грехом, когда милосердие вдруг прорывается там, где должна бы проявиться правда — высокая, безпощадная правда. Он стоит весь в грехе своем, не смея войти в область правды Божией, потому что там для него нет прощения, а стоит он у притолоки, надеясь, что до края этого храма, до края праведности и через край ее перельется милость, жалость, сострадание, милосердие, что с ним случится незаслуженное и невозможное.
И потому что он верит в это, потому что жизнь его именно этому научила — что случается невозможное, и только невозможное делает жизнь людскую возможной, — он стоит, и до него доходит Божие прощение.
Христос нам говорит, что этот ушел более оправданным, чем другой. Фарисей не был просто осужден: до часа смертного можно надеяться на прощение, и он был праведен, он был труженик, он вкладывал усилие души и тела в праведность свою. Она была безплодна, из нее не высекалась даже и искра сострадания и любви — и, однако, это была праведность…
А неправедность получила прощение.
Вот, подумаем об этом; подумаем о том, во-первых, являемся ли мы хотя бы фарисеями, есть ли в нас вообще какая-то правда, правда перед людьми, с доброделанием, правда перед Богом — то есть отдаем ли мы Ему должное, то, на что Он просто имеет право? А потом поставим перед собой вопрос: лишенные даже и праведности фарисея, не являемся ли мы такими же, как и он, безлюбовными, безсердечными, мертвыми душой гордецами? Как мы смотрим на ближнего — в храме, вне храма, в жизни, в семье, на работе, на улице, в газете, везде: единичного ближнего и коллективного ближнего? Как мы на них смотрим, как мы о них судим, не имея опоры даже в истинной, хотя и мертвой, праведности фарисея?.. Аминь.
2 февраля 1969 г.
Священник Вячеслав Резников
О стыде22
В последнем чтении, посвященном Кресту, Господь говорит: Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами (Мк.8:38). Впервые чувство стыда люди испытали, когда нарушили Божью заповедь, вкусив от запретного плода. В тот миг открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясания (Быт.3:7). То есть едва отступили от Бога, как тут же потеряли некий покров, и почувствовали себя и друг перед другом, и пред Богом обнаженными, незащищенными, хоть сквозь землю провалиться. Как и ныне чувствует себя пойманный и обличенный.
Но стыдящийся потому и стыдится, что все-таки признает законы, по которым живут окружающие. А ведь бывают и такие, о которых пророк говорил: Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют (Иер.6:15).
Бывает же и так, что человек старается жить по заповедям Христовым, а вокруг все не только делают противоположное, но и делающих одобряют (Рим.1:32)…
А ведь в каждом живет инстинкт общечеловеческого братства, желание быть со всеми и как все. И если я лишь умом христианин, то соприкосновение с грешным, прелюбодейным миром может ввергнуть в сильное уныние. Как говорит поэт, «теория суха, а древо жизни зеленеет». Жизнь бьет ключом, а я тут со своим юродством Креста и «сказками» о Воскресении! А за спиной у меня — что? Наша внешняя церковная жизнь, если взглянуть сторонним, придирчивым взглядом, очень уязвима для критики. И вот появляется тайная зависть к тем, кто живет просто и весело; а также — стыд: и за свою веру, и за своих социально неустроенных братьев. Стыдно сделать добро, стыдно быть целомудренным, стыдно быть честным. А если так, то значит мир не только внешне побеждает: значит ты и по совести принимаешь его правоту. И, понимая опасность такого стыда, Господь не ограничился словами. Он тут же пообещал: Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе (Мк.9:1). И вскоре действительно сделал некоторых свидетелями Своего Преображения, чтобы они своими глазами увидели: что на самом деле реально, а что — призрачно; и чтобы сами смогли воскликнуть: Господи! хорошо нам здесь быть (Мф.17:4). И не только стыдиться Креста Христова, но и стыдиться своей бедности, своих родных, своей внешности, своего возраста, значит — тоже стыдиться Того, Кто создал тебя или попустил тебе стать таким, зная, что именно такое состояние для тебя спасительно.
И дай нам Бог, чтобы наш стыд работал не на нашего врага, а на нас: чтобы стыдиться, когда хвалят, чувствуя себя вором, укравшим похвалу у Господа; чтобы стыдиться своих «мудрых» богословских речей, чувствуя несоответствие их твоей жизни. И чтобы стыд за свои грехи не от исповеди отвращал, но не допускал бы снова возвращаться к уже исповеданным однажды грехам.
О преодолении плотского самоутверждения
Однажды Господь сказал ученикам: Вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие (Лк.9:44). Но ученики не поняли слова сего. Апостолы в своих писаниях не старались показать себя в лучшем свете, и мы отчетливо видим, какими они были до того, как Святой Дух сошел на них. Мало того, что не могли они порой понимать простых слов Христовых; они еще и спросить Его о сем слове боялись (Лк.9:45). А между тем, их стали занимать мысли: кто бы из них был больше? (Лк.9:46). И однажды Господь, взяв дитя, поставил его пред Собою и сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня (Лк.9:47-48). И указал им прямой путь к истинному величию: кто из вас меньше всех, тот будет велик (Лк.9:48).
Ученики после этих слов, кажется, перестали величаться друг перед другом; но сила плотского самоутверждения осталась и устремилась на чужих, на внешних: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изгонявшего бесов, и запретили ему, потому что не ходит с нами… (Лк.9:49). Вот — плотский человек: невежество плюс предпочтение оставаться в этом невежестве, лишь бы не уронить себя в чужих глазах; плюс желание быть первым среди своих, или, по крайней мере, самоутверждаться перед чужими. И только когда Святой Дух сошел на Апостолов, они по-настоящему уразумели силу этих слов Господних: Кто из вас меньше всех, тот будет велик. И они стали учить этому всех христиан. Стали учить каждого применительно к его жизненной ситуации. Они говорили это и мужу, и жене; и родителям, и детям; и рабам, и господам. Они говорили: Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога… (Кол.3:18-22). Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа не небесах (Кол.4:1).
И действительно, умаляющий себя вдруг обретает подлинную силу и власть. Искреннее смирение подвластных безоруживает старших, буквально вырывает у них милость и снисхождение. Ведь давно было замечено, что кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость (Пр.25:15). Но также и смиренная милость старших лучше всего способна вызвать усердие и добросовестность в подвластных. И это действует даже по отношению к внешним, к совсем, казалось бы, чужим. Известен рассказ, как ученик некоего старца, идя по дороге, встретил идольского жреца, несущего бревно, и со злостью обозвал его «демоном». Жрец тоже со злобой побил ученика. Вслед за учеником встречает жреца и сам старец и ласково приветствует: «Спаси тебя Бог, трудолюбие!» Жрец был поражен, и сердце его мгновенно расположилось слушать слова о Христе.
Истинный раб Божий не стыдится учиться даже до седых волос. Он невысокого мнения о себе и поэтому не смущается, когда выказывает свое незнание, спрашивая учителей. Он и, подчиняясь и господствуя, всегда помнит о своей подчиненности Богу. И, наконец, он постоянно чувствует благоговение перед образом Божиим в любом человеке.
Преподобный Никодим Святогорец. Благоразумное молчание — пагуба гордости23
(О том, как управлять языком)
Самая великая лежит на нас нужда управлять как должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка — сердце; чем полно сердце, то изливается языком. Но, обратно, излившееся чрез язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых деятелей в образовании нашего гордого нрава.
Добрые чувства молчаливы. Излияния чрез слова ищут более чувства эгоистические, чтоб высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может показать нас, как нам мнится, с лучшей стороны. Многословие в больших случаях происходит от некоего горделивого самомнения, по коему, воображая, что мы слишком многосведущи и что наше мнение о предмете речи самое удовлетворительное, неудержимое испытываем понуждение высказаться и обильною речью с многократными повторениями запечатлеть то же мнение и в сердцах других, навязываясь таким образом им в учителя непрошеные и мечтая иметь иной раз учениками такие лица, которые понимают дело гораздо лучше учителя.
Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда предметы речи бывают более или менее стоящие внимания. Наибольшей же частью многоречие однозначительно с пусторечием; и в таком случае нет слов для полного изображения зол, происходящих от сего дурного навыка. И вообще многословие отворяет двери души, чрез кои тотчас выходит сердечная теплота благоговения, уем паче это делает пустословие. Многословие отвлекает внимание от себя, и в сердце, таким образом не блюдомое, начинают прокрадываться обычные страстные сочувствия и желания, и иногда с таким успехом, что, когда кончится пусторечие, в сердце окажется не только соизволение, но и решение на страстные дела. Пусторечие есть дверь к осуждению и клеветам, разноситель ложных вестей и мнений, сеятель разногласий и раздоров. Оно подавляет вкус к умственным трудам и всегда почти служит прикрышкой отсутствия основательного ведения. После многословия, когда пройдет чад самодовольства, всегда остается некое чувство тоскливости и постыдности. Не свидетельствует ли это о том, что душа и нехотя сознает тогда себя обокраденною?
Апостол Иаков, желая показать, как трудно говорливому удержаться от чего-либо неполезного, грешного и вредного, сказал, что удержание языка в должных границах есть достояние только совершенных мужей: аще кто в слове не согрешает, сей совершен муж, силен обуздати и все тело (Иак.3:2). Язык, коль скоро начнет говорить в свое удовольствие, то бежит в речи как разнузданный конь и выбалтывает не только хорошее и подобающее, но и нехорошее и зловредное. Потому апостол сей называет его неудержимым злом, исполненным яда смертоносного (там же, 3, 8).
Согласно с ним и Соломон еще древле изрек: от многословия не избежиши греха(Притч.10:19). И скажем с Екклезиастом, что вообще кто много говорит, тот обличает свое безумие, ибо обычно только безумный умножает словеса (Еккл.10:14).
Не распространяйся в долгих собеседованиях с тем, кто слушает тебя не с добрым сердцем, чтоб, надокучив ему, не сделать себя для него мерзостным, как написано:умножаяй словеса мерзок будет (Сир.20:8). Остерегайся говорить сурово и высокотонно, ибо то и другое крайне ненавистно и заставляет подозревать, что ты очень суетен и слишком много о себе думаешь. Никогда не говори хвалебно о себе самом, о своих делах или о своих родных, исключая случаи, когда это необходимо, но и при этом говори как можно короче и скорее. Когда видишь, что другие говорят о себе с излишком, понуди себя не подражать им, хотя слова их кажутся смиренными и самоукорительными. Что же касается ближнего твоего и дел его, то говорить не отказывайся, но всегда говори короче даже и там и тогда, где и когда это требовалось бы для блага его.
Беседуя, припоминай и старайся исполнить заповедь св. Фалассия, которая гласит: «Из пяти родов предметов речи в собеседовании с другими три употребляй с благоразумием небоязненно; четвертый употребляй не часто, а от пятого совсем откажись» Один из пишущих первые три понимает так: да, нет, само собою или ясное дело, под четвертым разумеет сомнительное, а под пятым совсем неизвестное. То есть, о чем знаешь верно, что оно истинно или ложно и что оно очевидно само собою, о том с решительностью говори как об истинном, или как о ложном, или как об очевидном; о том, что сомнительно, лучше не говори ничего, а когда и нужда, говори как о сомнительном, не предрешая; о неизвестном же тебе совсем не говори. Другой некто говорит: есть у нас пять приемов или оборотов речи — звательный, когда кого призываем; вопросительный, когда спрашиваем; желательный или просительный, когда желаем или просим; определительный, когда решительное о чем выражаем мнение; повелительный, когда начальственно и властно повелеваем. Из этих пяти первые три употребляй всегда свободно, четвертый — пореже, как можно, а пятого совсем не касайся.
О Боге говори со всем расположением, особенно о Его любви и благости, однако ж, со страхом, помышляя, как бы не погрешить и в этом, сказав что о Божественном небоголепно и смутив простые сердца слушающих. Посему люби паче внимать беседам о сем других, слагая словеса их во внутреннейшие хранилища сердца своего.
Когда же говорят о другом чем, то только звук голоса пусть приражается к слуху твоему, а не мысль к уму, который да стоит непоколеблемо устремленным к Богу. Даже и тогда, когда нужно бывает выслушать говорящего о чем, чтоб понять, в чем дело, и дать должный ответ, и тогда не забывай между речью слышимою и говоримою возверзать око ума на небеса, где Бог твой, помышляя притом о величии Его и о том, что Он не сводит с тебя ока Своего и взирает на тебя то благоволительно, то неблаговолительно, соответственно тому, что бывает в помышлениях сердца твоего, в твоих речах, движениях и делах.
Когда нужно тебе говорить, наперед обстоятельно рассуди о том, что высказать всходит на сердце твое, прежде чем перейдет то на язык твой, и найдешь, что многое из сего таково, что ему гораздо лучше не исходить из уст твоих. Но при этом знай, что и из того, что высказать кажется тебе делом хорошим, иному гораздо лучше оставаться похороненным в гробе молчания. Об этом иной раз сам ты узнаешь тотчас по окончании беседы.
Молчание есть великая сила в деле невидимой нашей брани с гордыней и верная надежда на одержание победы. Молчание очень любезно тому, кто не надеется на себя, а надеется на одного Бога. Оно есть блюстительница священной молитвы и дивная помощница при упражнении в добродетелях, а вместе и признак духовной мудрости. Св. Исаак говорит, что «хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и в делах явных, телом совершаемых, втайне доставляет великую силу к совершению их. Оно просвещает и в сокровенном делании, если только кто соблюдает молчание с ведением». В другом месте так восхваляет он его: «Когда на одну сторону положишь все дела добродетельного жития сего — отшельнического, а на другую — молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на весах. Много есть добрых для нас советов; но, когда сблизится кто с молчанием, излишним для него будет делание хранения их». В другом еще месте называет он молчание «таинством будущего века»; слова же, говорит, «суть орудие мира сего». Святой же Варсонофий ставит его выше богословствования, говоря: «Если ты и едва-едва не богословствуешь, то знай, что молчание более достойно удивления и славы». Посему хотя бывает, что иной молчит, потому что не имеет что сказать (Сир. 20:6), иной потому, что ждет удобного времени для своего слова (там же), иной по другим каким причинам, «славы ради человеческой, или по ревности о сей добродетели молчания, или потому, что держит сокровенное в сердце собеседование с Богом, от коего не хочет отойти внимание ума его», но вообще можно сказать, что кто молчалив, тот показывает себя благоразумным и мудрым (Сир.19:28; 20, 5).
К тому, чтоб навыкнуть молчанию, укажу тебе одно самое прямое и простое средство: берись за дело сие — и само дело будет и научать тебя, как его делать, и помогать в этом. Для поддержания же усердия к такому труду почаще размышляй о пагубных следствиях безразборной говорливости и спасительных следствиях благоразумного молчания. Когда же дойдешь до вкушений спасительных плодов молчания, тогда не потребуется более для тебя никаких в отношении гордыни уроков.
Преподобный Никодим Святогорец. Изгони из сердца самоцен высокий…24
Если судим строго ближних, то это от высокого о себе мнения и от наущения вражеского.
От самолюбия и самомнения порождается в нас зло, причиняющее нам большой вред, а именно строгий суд и осуждение ближнего, по которому мы потом ни во что не ставим, презираем и унижаем его при случае. Каковой злой навык и порок, происходя от гордости, ею питается и возращивается, и наоборот, ее питает и возращивает, ибо и гордыня наша после всякого действия осуждения подвигается вперед, по причине сопутствующего сему действию самоуслаждения.
Давая себе высокую цену и вознесенно о себе думая, естественно, свысока смотрим мы на других, осуждаем их и презираем, так как нам кажется, что мы далеки от тех недостатков, каких, как нам думается, не чужды другие. А тут еще на страже и всезлобный враг наш, видя в нас такое недоброе расположение. Он бодренно стоит близ и, открывая очи наши, научает зорко смотреть за тем, что делают и говорят другие, делать из сего заключения, какие потому у них мысли и чувства, и по этим предположениям составлять о них свое мнение — чаще всего недоброе, с возведением сей недоброты в закоренелый порок души. Не замечают и не видят эти судьи, что самое начало осуждения, подозрение худобы в других, запечатлевается в мысли воздействием врага, и им же оно потом раздувается в уверенность, что люди и действительно таковы, хотя на деле ничего такого и нет.
Но, брате мой, как враг бодренно следит за тобою, высматривая, как бы посеять в тебе зло, смотри еще паче ты бодренно сам над собою, чтоб не попасть в расставляемые им на тебя сети. И как только он представит тебе какой недостаток в ближнем твоем, спеши поскорее отклонить от себя помысл сей, не давая ему засесть в тебе и разрастись, и вытесни его из себя вон, чтоб и следа его не оставалось, заменив его помышлением о добрых свойствах, какие знаешь в ближнем сем и какие вообще уместны в людях, прилагая к сему, если еще чувствуешь позыв произнести осуждение, ту истину, что тебе не дано на то власти и что, присвоив себе эту власть, ты сам в этот момент делаешься достойным суда и осуждения не пред немощными людьми, но пред всесильным Судиею всех Богом.
Такой переворот помысла есть самое сильное средство к отогнанию не только случайно находящих помыслов осуждения, но и к тому, чтоб совсем отучить себя от сего порока.
Второе же, тоже очень сильное к тому средство есть не выпускать из ума памятования о своей худости, своих нечистых и злых страстях и делах и соответственно тому непрестанно в себе держать чувство своего непотребства.Того и другого — страстей и дел страстных, конечно, найдется в тебе не мало. Если ты не бросил себя и не махнул рукой, говоря; «Будь, что будет», то не можешь не заботиться об уврачевании этих своих нравственных немощей, губящих тебя. Но если ты делаешь это искренне, то у тебя не должно доставать времени заниматься делами других и судебные составлять о них приговоры, ибо тогда, если позволишь себе это, в ушах твоих непрестанно будет звучать: врач, исцелися сам; изми сперва бревно из глаза твоего (Лк.4:23; Мф.7:5).
К тому же, когда ты строго судишь о каком недобром поступке ближнего, знай, что какой-нибудь корешок этой же самой недоброты есть и в твоем сердце, которое по своей страстности научает тебя строить догадки о других и осуждать их. Злой человек из злого сокровища сердца своего износит злое (Мф.12:35). Напротив, око чистое и безстрастное безстрастно взирает и на дела других, а не лукаво. Чисто око еже не видети зла (Авв.1:13). Потому, когда придет тебе помысл осудить другого за какую-либо погрешность, вознегодуй на самого себя, как на делателя таких дел и в том же повинного, и скажи в сердце своем: «Как я, окаянный, находясь в том же самом грехе и делая еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять голову, чтоб видеть прегрешения других и осуждать их?» Действуя так, ты будешь оружие, которым злой помысл внушает тебе поразить другого, обращать на самого себя и вместо уранения брата, пластырь будешь налагать на раны собственные.
И тогда, как грех брата будет не тайный, а явный, всем видный, ты старайся причину тому искать не в том, что внушает недобрая твоя (а возможно и твоих единомышленников) страсть осуждения, а в том, на что может указать братолюбное к нему расположение, и скажи в себе: «Так как брат сей имеет много сокровенных добродетелей, то Бог для сохранения их от повреждения тщеславием попустил ему впасть в теперешний грех или малое время побыть под этим невзрачным покровом, чтоб он и самому себе, пред своими глазами, казался непотребным и, будучи за то презираем другими, пожал плод смиренномудрия и еще более благоугодным сделался Богу, так что в настоящем случае он получит больше пользы, чем сколько потерпел вреда».
Пусть даже чей-нибудь грех будет не только явный, но и очень тяжкий и исходит из ожесточенного и нераскаянного сердца, ты и при этом не осуждай его, но возведи очи ума твоего к непостижимым и дивным судам Божиим и увидишь, как многие люди, бывшие прежде пребеззаконными, потом каялись и достигали высокой степени святости, и как, с другой стороны, иные, стоявшие на высокой степени совершенства, падали в глубокую пропасть. Смотри, не подвергнуться бы и тебе такому бедствию за осуждение.
Потому стой всегда со страхом и трепетом, боясь более за себя самого, чем за другого кого. И будь уверен, что всякое доброе слово о ближнем и радость о нем суть в тебе плод и действие Святого Духа, как, напротив, всякое о нем худое слово и презрительное его осуждение происходят от твоего злонравия и дьявольского тебе внушения. Посему, когда соблазнишься каким-либо недобрым поступком брата, не давай очам своим сна, пока не изгонишь из сердца своего сего соблазна и совершенно не примиришься с братом.
Протоиерей Александр Шмеман
Терпением спасайте души свои…25
Произносишь слово «смиренномудрие» — и сразу чувствуешь, до какой степени чуждо оно духу современности. Какое там смиренномудрие, какое там смирение, когда вся жизнь теперешняя построена на одном сплошном самолюбовании, самовосхвалении, на пафосе внешней силы и первенства, величия, иерархического могущества и так далее. Этот дух гордости и самовосхваления сверху донизу пронизывает собою не только политическую и государственную жизнь, но и личную, профессиональную, общественную, то есть буквально все проявления жизни.
Мы учим детей чем-то гордиться, но редко себя и их призываем к смирению. Более того, одним из главных обвинений, постоянно предъявляемых религии со стороны воинствующего безбожия, является как раз обвинение в том, что религия учит смирению и призывает к нему как к главной христианской добродетели. Религия — по утверждению безбожников — проповедует рабство, покорность, унижает и умаляет человека и его достоинство, ибо она вся построена на смирении. Но удивительно, во всех этих обвинениях никто и никогда не объясняет — что же такое смирение? Чему учит христианство, когда говорит о смирении? Почему, в каком смысле смирение унижает человека? Вот Христос говорит про Себя: Я кроток и смирен сердцем. Однако вряд ли кому придет в голову сказать, что это свидетельство равнодушия Христа ко злу, Его слепого подчинения кому бы то ни было, страха перед сильными мира сего. Ведь вот стоит Он перед Пилатом и говорит ему — так просто: Ты не умеешь надо Мною никакой власти. По-видимому, есть смирение и СМИРЕНИЕ, и прежде чем обличать его, нужно договориться — о каком смирении поведем речь.
Что же такое христианское смирение? Прежде всего, это, конечно, чувство правды, в первую очередь, правды, — о самом себе. Правда же никогда не унижает и не умаляет, а возвышает и очищает. Это — отказ от всякого приукрашения самого себя, это отвращение от пыли, пускаемой в чужие глаза. Смирение — это, наконец, знание своего места, своих возможностей и ограниченностей, это мужественное принятие себя таким, каков я есть… Вот почему, подобно целомудрию, смирение есть начало мудрости, и мы просим в молитве дарования нам смиренномудрия. Только тот, кто не лжет, не преувеличивает, не хочет «казаться», вместо того, чтобы «быть», а спокойно, трезво и мужественно принимает и делает свое дело, только тот обладает мудростью смирения. И, конечно, с этой точки зрения христианство, проповедуя смирение, не умаляет, а возвышает и, главное, — уважает человека. Ибо только тот нуждается в самовосхвалении, кому не хватает чего-то, только уроду нужно приукрашать себя, только слабый постоянно похваляется мнимой своею силой. Там, где есть свобода, там не нужна пропаганда, где есть подлинная сила, там не нужны угрозы, где есть подлинная красота, там не нужна «убогая роскошь наряда». И потому смиренномудрие — это то, чего так не хватает современному миру и современному человеку, то, о чем, сам того не зная, но изнемогая в море лжи и самовосхваления, он тоскует больше всего…
За смиренномудрием в молитве святого Ефрема Сирина следует терпение. И опять мы наталкиваемся тут на одно из главных обвинений против религии: проповедуя терпение, она-де подрывает в человеке способность к протесту, к борьбе, к защите своих прав, к стремлению к лучшему, более справедливому миру. Тут, однако, опять следует обратиться ко Христу. Да, Он учит терпению: Терпением спасайте души свои. Но то, что Христос называет терпением, так же далеко от карикатуры на терпение в безбожных брошюрках, как христианская любовь к ближнему — от той любви к дальнему и безличному коллективу, во имя которого миллионы людей сегодня лишены свободы. В основе христианского терпения — совсем не равнодушие ко злу, а, как это ни странно звучит, — очень активное чувство доверия к человеку. Сколько бы человек ни падал, ни предавал лучшее в себе, христианство призывает нас верить, что не это: не зло, не падение — сущность человека. Оно верит, что человек всегда может подняться, вернуться к своей светлой сущности…
В конце концов терпение — это вера в силу добра. И, наконец, мы просим в молитве святого Ефрема Сирина — духа любви. Любовь — это завершительный аккорд молитвы. Она одновременно и скрытый двигатель нашей жизни, и цель ее. Все ею живет, все к ней направлено, и ею узнаем мы, что Бог есть Любовь.
Блудных исправляют люди, лукавых — ангелы, а гордых — один Бог…26
Гордость есть, как говорит святой Иоанн Лествичник:
- отступление от Бога,
- бесовское изобретение, погубившее изобретателя,
- отгнание Божией помощи,
- источник гнева,
- дверь лицемерия,
- грехов хранительница,
- хулы корень,
- упорство в своих мнениях.
Кто одержим сею богопротивною страстью, от такового нередко отходят все прочие страсти, ибо одна она, то есть гордость, все их заменяет.
Кто превозносится и надмевается тем, что он причастник благодати, то хотя бы он и мертвых воскрешал, но если не признает души своей безчестною и уничиженною и себя нищим по духу и мерзким, скрадывается он злобою, сам не зная того. Противится гордости сокрушение сердечное, а наипаче самоукорение. Безумие крайнее — кичиться Божиими дарованиями, таковые, как недостойные, лишаются их. Гордый подвижник подобен яблоку, снаружи красотою блестящему, а внутри согнившему.
Дьявол не имеет нужды искушать гордого, потому что он сам себе сделался врагом и супостатом. Как тьма чужда света, так гордый чужд добродетели.
Иные, ослепленные гордостью, считают себя святыми и только в час смертный, несчастные, познают свою погибель.
Некто, боримый помыслами гордости, написал на стене наименование высочайших добродетелей и, прочитывая оные, воздыхал о своем убожестве.
До конца своей жизни должно памятовать о грехах своих, не приводя, впрочем, себе в подробности совершение их, особенно плотских грехов. Памятование о грехах присушает помыслы гордости.
Блудных исправляют люди, лукавых — ангелы, а гордых — один Бог. Кто не имеет послушания, не отсекает своей воли, не терпит укорений, безчестий и поношений, тот не возможет стяжать истинное смирение. Как от огня не рождается снег, так и ищущие земной славы — небесной наслаждаться не будут. Св. Ефрем Сирин сказал о гордости: «Кто ею исполнен, в том невидимо водворяется лукавый».
Не допускай в себя недуга гордыни, чтобы враг внезапно не похитил у тебя рассудка. Смиренномудрием очисти ум свой от этого смертоносного яда.
Начало и конец худого — высокоумие. Этот нечистый дух изворотлив и многообразен, употребляет всякие усилия возобладать всеми, каждому, каким кто идет путем, ставит сеть. Мудрого уловляет мудростью, богатого — богатством, благообразного — красотою, красноречивого — красноречием, имеющего приятный голос — приятностью голоса, художника — искусством, оборотливого — удачей. Подобным сему образом не перестает дьявол искушать и проводящих духовную жизнь, и ставит сеть: отрекшемуся от мира — в отречении, воздержному — в воздержании, безмолвнику — в безмолвии, нестяжательному — в благоговении, сведущему — в знании. Так высокоумие во всех старается посеять свои плевелы. Посему, где эта жестокая страсть гордости укоренится, ни к чему не годным делает человека и весь труд его. Господь для победы над гордостью дал нам смиренномудрие, состоящее в том, чтобы, что б мы ни сделали, считать себя рабами непотребными.
Гордость — потеря любви к Богу и ближним, богоотступничество, омрачение ума, лжеименная философия, смерть души.
Гордость, как говорит св. Златоуст, все житие наше нечистым сотворяет, хотя бы чистоту, девственность, пост, молитву, милостыню и другие добродетели творили мы.
Св. Тихон Задонский взывает к гордому: «Проникни в гробы и распознавай там царя от воина, славного от безчестного, богатого от нищего, крепкого от немощного, благородного от худородного. Тут хвались своим благородством, тут превозносись разумом, тут величайся красотою, тут красуйся богатством, тут надмевайся честью, тут исчисляй титулы. О, бедная тварь, бедная по началу, бедная по житию, бедная по концу. Помяни еще, кто ты есть? Создание, по образу Божию созданное, но образ Божий погубившее, падшее, растлившееся, скотом несмысленным приложившееся, но милосердием Божиим восстановленное, Сына Божия страданием и смертью искупленное. Он тебя ради смирился, тебе ли гордиться? Тебя ради приял образ раба, тебе ли искать владычества? Тебя ради обнищал, тебе ли гоняться за богатством?
Безчестие приял, тебе ли чести домогаться? Не имел где главы приклонить, тебе ли расширять великолепные здания? Умыл ноги ученикам Своим, тебе ли стыдно послужить ближним своим? Он неповинно терпел и для тебя, тебе ли, виновному, не терпеть? Не заслужили ли того грехи твои? Сын Божий за распинателей Своих молился: Отче, остави им! Тебе ли на оскорбивших гневаться, злобиться, искать мщения? Кто ты такой, что не терпят уши твои и малого оскорбления? Тварь убогая, немощная, нагая, страстная, заблудшая, всяким злополучиям подверженная, всякими бедами окруженная, трава, сено, пар, вмале являющийся и исчезающий. — Но если ты приемлешь Сына Божия за Спасителя, Искупителя, Наставника и Учителя твоего, то приемли и учение Его, последуй учению Его; если последуешь учению Его, последуй смирению, которому Он тебя и словом и делом прежде всего учил: научится от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф.11:29). Не стыдно ли тебе, рабу, гордиться, когда Господь твой смиряется? Как наречешься Его рабом, когда не повинуешься Ему? Как назовешься Его учеником, когда не слушаешься Его учения? Не признает и Он Тебя за Своего, когда увидит на челе твоем печать бесовской гордыни, не признает тебя за Своего раба, когда не увидит в тебе смирения и послушания, не признает тебя за Своего ученика, когда не увидит Своего учения. Ты стыдишься смирения Его, и Он постыдится тебя. Иже бо аще постыдится Мене и Моих словес в роде сем прелюбодейнем и грешнем, и Сын человеческий постыдится его, егда приидет во славе Отца Своего со ангелы святыми (Мк.8:38).
Не будет с Ним иметь участие в славе Его тот, кто не хотел быть участником в смирении Его.
Нет ничего опаснее и сокровеннее гордости, — продолжает святитель Тихон. — Сокровенная гордость глубоко в сердце нашем кроется, и усмотреть ее не можем без помощи Иисуса Христа, Сына Божия, и лучше ее познаем на ближних наших, нежели на себе. Другие пороки, как-то: пьянство, блуд, воровство и проч. — видим, ибо часто их стыдимся, но гордости не видим; кто бы себя признал от сердца гордым, еще не случалось того видеть.
Многие называют себя грешными, но от других называться не терпят, и так от сего показывают, что языком только называют себя грешниками, а не сердцем, на устах смирение показывают, а на сердце его не имеют; истинно смиренный огорчиться и гневаться от укорения не может; ибо всякого уничижения достойным себя мнит. Нет ничего труднее, как избавиться гордости, потребна особенная помощь Божия и великие подвиги к победе над нею, ибо внутрь себя носим зло сие.
В благополучии ли находимся? Она с величанием и пышностью, презрением и уничижением ближних приходит к нам.
В злополучие ли впадаем? Чрез негодование, роптание и хуление показывает себя змея эта. Терпению ли, кротости и прочим добродетелям обучиться хотим? Кичением фарисейским восстает она на нас. Нигде и никак от нее избавиться не можем; всегда с нами ходит, всегда хочет господствовать и владеть нами».
Как гордым Бог противится, показывают страшные Суды Божии, которые нам Священное Писание представляет, чтобы мы, взирая на них, всеми силами береглись сего мерзкого, душепагубного порока, внимая словам Спасителя: яко всяк возносяйся смирится, смиряли же себе вознесется (Лк.18:14).
Гордость велеречива, высокоречива и многоречива; славы, чести и похвалы всяким образом ищет; высоко себя и дела свои превозносит, других презирает и уничтожает, ищет себя показать, безстыдно себя хвалит, какое добро имеет — себе приписывает, а не Богу; хвалится и тем добром, которого не имеет; недостатки и пороки свои скрывает, в презрении и уничижении быть не терпит, увещаний, обличений, советов не принимает, в дела чужие самовольно вмешивается, в несчастии ропщет, негодует и часто хулит.
Гордость гневлива, завистлива; не хочет, чтобы кто равен и выше ее был, но чтобы она всех превышала.
Гордость ненавистлива и есть начало и корень всякого греха. Она высоко возносится, но весьма низко падает. В горделивом невидимо водворяется дьявол, где высокомерие — там жилище бесов. Гордость — это тысячеглавый змий.
Моисей, сподобившийся быть собеседником Божиим: быв кроток зело, паче всех человек, сущих на земли (Чис.12:3).
Где кротость и смирение, там благодать Святого Духа и вселение святых ангелов. Ты считаешь себя мудрым или подвижником, но ты еще не сравнился с тремя отроками и пророком Даниилом, из которых один говорил: Тебе, Господи, правда, нам же стыдение лица (Дан.9:7).
Кто чем-либо превозносится, тот противник Божий, ибо Господь дал нам образ глубочайшего смирения, препоясавшись полотенцем, умыв ноги ученикам Своим.
Гордость омрачает разум, низводит в бездну зол; она из всех страстей лютейшая и восполняет собою все оные, почему нередко можно видеть в иных одержимых сею страстью строгость жизни и подвижничество, ибо дьявол, уловивши человека сею страстью, не препятствует уже ему в мнимых подвигах и даже помогает, дабы, тем надмив, потом низвергнуть в глубочайшую бездну погибели.
Гордость препятствует человеку видеть свои недостатки.
Ни об одной страсти столько дьявол не радуется, как о гордости, высокомерные носят на челах своих печать его. Дьявол в самых добродетелях наших тщится посеять плевелы гордости. Молитвенников он уловляет молитвою, внушая им о себе высокое мнение, подвижника — подвигами его, благоговейного — благоговением, постника — воздержанием, милосердного — благотворениями его, безмолвника — безмолвием, нестяжательного — нестяжанием и проч. Кого как и чем может, посевая в каждом помыслы самомнения, но дабы искоренить оные в самом их основании, Всеблагий Спаситель наш изрек сии Божественные слова: Аще сотворите вся повеленное вам, глаголите, яко раби непотребны есмы: яко еже должни бехом сотворити, сотворихом (Лк.17:10).
Многие великие подвижники, предавшись нерадению, а наипаче самомнению, пали падением лютым и бедственно кончили свою жизнь, а иные явные грешники восстали и как солнце просияли.
Примеров тех и других безчисленное множество.
Митрополит Трифон Туркестанов. Слово перед общей исповедью 27
Конечно, поражены грехами гордыни но, к сожалению и стыду нашему, мы сами не ощущаем тяжести этих грехов. В самом деле, положа руку на сердце, мы не придаем никакого значения им, страшно сказать, сколько раз мы клеветали, осуждали, подвергали насмешкам ближних. Множество грехов обременяют нашу душу, и как пыль садится на тело и делает его больным, точно так же и грех, садясь на душу, делает ее грязной. Повторяю, в обыкновенное время мы этого не чувствуем.
Здесь мне припоминается, как в дни моей юности, когда я был подростком, одна знакомая моей матери, особа образованная, в достаточной степени религиозная, говорила моей матери: «Наступил пост, вот надо говеть, готовлюсь, размышляю и не вижу никаких грехов…». Тогда я, будучи мальчиком, удивился, мне это показалось очень странным, и я ничего не мог тогда ей ответить. Теперь бы я ей ответил: «Потому вы и не видите своих грехов, что эти грехи фарисейской гордости»; а по чистой совести сказать, многие ли из нас считают себя грешниками и преступниками в очах Божиих? Думаю — немногие.
Что же нужно делать, чтобы выявить этот грех так, чтобы он возбудил чувство покаяния, чтобы он возбудил нашу совесть? Когда совесть пробудится, тогда пробудится и душа и все воззрение на грехи покажется в другом свете. Вот тогда сонм грехов гордости предстанет пред нами во всей ужасной мерзости; все равно как бы на листе чистой бумаги порой незаметны линии рисунка, но стоит зажечь свечу и поднести лист к свече — и вы увидите, что на этом листе нарисована целая картина. Вот и совесть — она является светом, который выявляет все грехи, и, может быть, когда совесть говорит в человеке, тогда он видит в своей душе толпы грехов, и тогда он говорит: «Грешен я».
Как же зажечь огонь для пробуждения совести? Различным образом: часто от доброго слова, которое западет в душу, или пробудит ее близкий человек, часто от чтения Священного Писания, если углубиться в него, часто от болезней, скорбей, лишений, уколов самолюбия, от разбитой жизни… Но думаю, что одно из самых важных средств — это то, что вы собрались сюда, в такое время на эту общую исповедь (думаю, что вы с этим согласитесь), здесь, когда мы все объединимся в единое сердце и в единую душу, когда мы, может быть, единственный раз в году чувствуем это, когда мы молимся и желаем прощения, спасения, желаем вечной блаженной жизни, когда особенную оценку получают наши грехи, тогда мы не скажем: «Этот грех малый, этот грех ничтожный». Тогда мы скажем: «Господи, прости, я сознаю, что я великий грешник».
Простите меня, дорогие духовные дети: углубясь в свою душу, припомните, что сделали в прошлом году, и будем просить прощения у Господа Бога.
Ты же, Милосердый Боже, сказал: где два или три собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тебе открыты наши души и наши сердца… Ты видишь нашу искренность. Помоги нам благодатью Своею.
Я же грешный, властию Твоею, мне данною, прощаю и разрешаю вас от всех грехов ваших.
5 марта 1932 г.
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Скромность — трудно исполнимая форма добра…28
Однажды в доме, куда Он был приглашен, Христос увидел, как «званные выбирали первые места». Заметив эту житейскую деталь, Господь, для Которого ничего не было в нравственном мире второстепенного, сказал слова, которые остались звучать над миром: Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал тебе: «Уступи ему место»; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но, когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подошедши, сказал: «Друг! Пересядь выше»; тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет; а унижающий себя возвысится (Лк.14:8-11).
Проявление человеческого самолюбия совершается чаще всего именно в житейской обстановке, в гостях, в гостиной, в столовой. Как и в древние времена, современный гость тоже хочет сесть на место более почетное. Такое местничество сильно было в ходу у бояр Московской Руси, которые (никак не являя в этом православного духа!) стремились друг друга вытеснить с первых мест, «пересидеть» за царским столом. Но, конечно, кроме трапез самых бедных людей, во всех странах мира идет, хотя и незаметное, соревнование в честолюбии.
Скромность — трудноисполнимая форма добра! Человек, болезненно думающий о том, как бы в чем не поставить себя ниже другого и как бы поставить себя выше другого, не способен к созидательному труду. Тем более к высшему, духовному. Это, может быть, относится и к нам, пастырям. Тщеславие есть признак не только нравственного, но и умственного застоя.
В мудрых и спокойных словах Христос открыл нам, людям, эту истину. Но перед тем как остро обличить человечество, Он выявил Свое Божественное милосердие, исцелив больного. Это было в доме «одного из начальников фарисейских» и случилось в субботу, в праздничный день, когда запрещалась всякая работа. Как в нашу эпоху, не понимали многие и тогда — в чем дух настоящего религиозного праздника, не понимали того, что он состоит не в мертвой букве внешнего «выполнения предписания», но истинный праздник религиозный есть день послушания Богу в духе и истине и выявлении милосердия.
И вот, не понимавшие этого религиозного смысла праздника люди сочли исцеление Христом больного в праздник нарушением заповеди о покое седьмого дня. Такова слепота людей. Но Господь пришел для спасения слепых… В тот день, когда Христос был у фарисеев в гостях, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью… Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тот час ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать Ему на это. (Лк.14:2-6)
Дело человека — творить добро и помогать людям-братьям всегда и особенно — в религиозные праздники. Всякий день — день Божий, и есть добро Божие, и создан для добра. И праздник веры — это милосердие Божие и человеческое.
И уча этой истине, Спаситель указал, что явлению милосердия более всего мешает человеческое самолюбие, и оттого, желая исцеления всем людям, Он сказал: Всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Многие в мире не знают духовных законов. Но эти законы существуют и опровергают неверие в духовный мир. Жалкое, отталкивающее впечатление производит на всех, даже нерелигиозных людей человек, который, возгордясь, сам себя хвалит. И чем больше человек собою похваляется и себя превозносит, тем он кажется более жалким для окружающих. Таково действие духовного закона. И чем человек скромнее, тем он приятнее для всех. Скромных все любят — тщеславные всех отталкивают. Мы ясно видим, что действует даже в неверующих людях непреложный закон. И если неверующие не ценят скромности в себе, то всегда ценят ее в других людях.
Мы не ошибемся, признав скромность одной из самых утешительных черт человеческой личности. Скромность, безусловно, равна милосердию, так как в силу одной своей скромности человек уже милосерд к другим людям — не надоедает им своими претензиями, не мучает их своим посягательством на какую-то значительность. Вольно или невольно негордый всегда отдает честь, во-первых, Богу, а потом и людям, которые все свои дары имеют от Бога.
Скромный оттого никогда в жизни не проигрывает; его таланты и достоинства не унижаются его скромностью, наоборот, еще больше вырастают.
И скромность отнюдь также не означает слабости, как думают некоторые, опасаясь скромности. Она, и только она есть сила и доблесть духа. И в жизни обществ и народов «гордыня идет перед погибелью». Уровень культуры прямо пропорционален скромности общественной и международной. И оттого Слово, создавшее миры, приняло на Себя жизнь скромного Человека и прошло страдальческим путем жизни, показывая дух скромности, как свет, ведущий в безконечную славу Небесного Царства.
Смирение Христа Иисуса стало печатью истины в человеке.
Святитель Игнатий Брянчанинов. Мнимое смирение — порождение Гордости 29
Смирение не видит себя смиренным. Напротив того, оно видит в себе множество гордости. Оно заботится о том, чтобы отыскать в себе все ее ветви; отыскивая их, усматривает, что и еще надо искать очень много.
Преподобный Макарий Египетский, нареченный Церковью Великим за превосходство своих добродетелей, особливо за глубокое смирение, отец знаменоносный и духоносный, сказал в своих возвышенных, святых, таинственных беседах, что самый чистый и совершенный человек имеет в себе нечто гордое (Беседа 7, гл. 4). Этот угодник Божий достиг высшей степени христианского совершенства, жил во времена, обильные святыми, видел величайшего из святых иноков, Антония Великого, — и сказал, что он не видел ни одного человека, который бы вполне и в точном смысле слова мог быть назван совершенным (Беседа 8, гл. 5).
Ложное смирение видит себя смиренным: смешно и жалостно утешается этим обманчивым, душепагубным зрелищем.
Сатана принимает образ светлого ангела; его апостолы принимают образ апостолов Христовых (2Кор.9:13-15); его учение принимает вид учения Христова; состояния, производимые его обольщениями, принимают вид состояний духовных, благодатных: гордость его и тщеславие, производимые ими самообольщение и прелесть принимают вид смирения Христова.
Ах! Куда скрываются от несчастных мечтателей, от мечтателей, бедственно-довольных собою, своими состояниями самообольщения, от мечтателей, думающих наслаждаться и блаженствовать, куда скрываются от них слова Спасителя: Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь и горе вам, пресыщенные ныне, горе вам смеющиеся ныне (Лк.6:21, 25)?
Посмотри попристальнее, посмотри безпристрастно на душу твою, возлюбленнейший брат! Не вернее ли для нее покаяние, чем наслаждение? Не вернее ли для нее плакать на земле, в этой юдоли горестей, назначенной именно для плача, нежели сочинять для себя безвременные, обольстительные, нелепые, пагубные наслаждения?
Покаяние и плач о грехах доставляют вечное блаженство: это известно, это достоверно, это возвышено Господом. Почему же тебе не погрузиться в эти святые состояния, не пребывать в них, а сочинять себе наслаждения, насыщаться ими, удовлетворяться ими, ими истреблять в себе блаженную алчбу и жажду правды Божией, блаженную и спасительную печаль о грехах твоих и о греховности?
Алчба и жажда правды Божией — свидетели нищеты духа, плач — выражение смирения, его голос. Отсутствие плача, насыщение самим собою и наслаждение своим мнимо духовным состоянием обличают гордость сердца.
Убойся, чтобы за пустое, обольстительное наслаждение не наследовать вечного горя, обещанного Богом для насыщенных ныне самовольно, в противность воле Божией.
Тщеславие и чада его — ложные наслаждения духовные, действующие в душе, не проникнутой покаянием, созидают призрак смирения. Этим призраком заменяется для души истинное смирение. Призрак истины, заняв собою храмину души, заграждает для самой Истины все входы в душевную храмину.
Увы, душа моя, Богозданный храм истины! — приняв в себя призрак истины, поклонившись лжи вместо Истины, ты соделываешься капищем!
В капище водружен идол: мнение смирения.
Мнение смирения — ужаснейший вид гордости. С трудом изгоняется гордость, когда человек и признает ее гордостью. Но как он изгонит ее, когда она кажется ему его смирением?
В этом капище горестная мерзость запустения! В этом капище разливается фимиам кумирослужения, воспеваются песнопения, которыми увеселяется ад. Там помыслы и чувства душевные вкушают воспрещенную снедь идоложертвенную, упиваются вином, смешанным с отравою смертоносною. Капище, жилище идолов и всякой нечистоты, недоступно не только для Божественной благодати, для дарования духовного, — недоступно ни для какой истинной добродетели, ни для какой евангельской заповеди.
Ложное смирение так ослепляет человека, что вынуждает его не только думать о себе, намекать другим, что он смирен, но открыто говорить это, громко проповедовать.
Жестоко насмехается над нами ложь, когда, обманутые ею, мы признаем ее за истину.
Благодатное смирение невидимо, как невидим податель его Бог. Оно закрыто молчанием, простотою, искренностью, непринужденностью, свободою.
Ложное смирение — всегда с сочиненною наружностию: ею оно себя публикует.
Ложное смирение любит сцены: ими оно обманывает и обманывается. Смирение Христово облечено в хитон и ризу (Ин.19:24), в одежду самую безыскусственную: покровенное этою одеждою, оно не узнается и не примечается человеками.
Смирение — залог в сердце, святое, безыменное сердечное свойство, Божественный навык, рождающийся неприметным образом в душе от исполнения евангельских заповедей (прп. авва Дорофей, Поучение 2).
Действие смирения можно уподобить действию страсти сребролюбия. Зараженный недугом любви к тленным сокровищам чем более накопляет их, тем делается и ненасытнее. Чем он более богатеет, тем для себя самого представляется беднее, недостаточнее. Так и водимый смирением чем более богатеет добродетелями и духовными дарованиями, тем делается скуднее, ничтожнее пред собственными взорами.
Это естественно. Когда человек не вкусил еще высшего добра, тогда собственное его добро, оскверненное грехом, имеет пред ним цену. Когда же он причастится добра Божественного, духовного, тогда без цены пред ним его добро собственное, соединенное, перемешанное со злом.
Дорог для нищего мешец медниц, собранный им в продолжительное время с трудом и утомлением. Богач неожиданно высыпал в его недра несметное число чистых червонцев, и нищий кинул с презрением мешец с медницами, как бремя только тяготящее его.
Праведный, многострадальный Иов по претерпении лютых искушений сподобился Боговидения. Тогда он сказал Богу во вдохновенной молитве: Слухом убо уха слышах Тя первее, ныне же око мое виде Тя. Какой же плод прозяб в душе праведника от Боговидения? Тем же, продолжает и заключает Иов свою молитву, укорих себе сам, и истаях; и мню себе землю и пепел (Иов.42:5-6).
Хочешь ли стяжать смирение? — Исполняй евангельские заповеди: вместе с ними будет вселяться в сердце твое, усваиваться им святое смирение, то есть свойства Господа нашего Иисуса Христа.
Начало смирения — нищета духа, средина преуспеяния в нем — превысший всякого ума и постижения мир Христов, конец и совершенство — любовь Христова.
Смирение никогда не гневается, не человекоугодничает, не предается печали, ничего не страшится.
Может ли предаться печали тот, кто заблаговременно признал себя достойным всякой скорби?
Может ли устрашиться бедствий тот, кто заблаговременно обрек себя на скорби, кто смотрит на них, как на средство своего спасения?
Возлюбили угодники Божии слова благоразумного разбойника, который был распят близ Господа. Они при скорбях своих обыкли говорить: Достойное по делам нашим восприемлем; помяни нас, Господи во Царствии Твоем (Лк.23:41-42). Всякую скорбь они встречают признанием, что они достойны ее (прп. авва Дорофей, Поучение 2).
Святой мир входит в сердца их за словами смирения! Он приносит чашу духовного утешения и к одру болящего, и в темницу к заключенному в ней, и к гонимому человеками, и к гонимому бесами.
Чаша утешения приносится рукою смирения и распятому на кресте; мир может принести ему только оцет с желчию смешан (Мф.27:34).
Смиренный неспособен иметь злобу и ненависть. Он не имеет врагов. Если кто из человеков причиняет ему обиды — он видит в этом человеке орудие правосудия или промысла Божия.
Смиренный предает себя всецело воле Божией.
Смиренный живет не своею собственною жизнью, но Богом.
Смиренный чужд самонадеянности, и потому он непрестанно ищет помощи Божией, непрестанно пребывает в молитве.
Ветвь плодоносная нагибается к земле, пригнетаемая множеством и тяжестью плодов своих. Ветвь безплодная растет к верху, умножая свои безплодные побеги.
Душа, богатая евангельскими добродетелями, глубже и глубже погружается в смирение, и в глубинах этого моря находит драгоценные перлы: дары Духа.
Гордость — верный знак пустого человека, раба страстей, знак души, к которой учение Христово не нашло никакого доступа.
Не суди о человеке по наружности его; по наружности не заключай о нем, что он горд или смирен. Не судите на лица, но от плод их познаете их (Ин.7:24; Мф.7:16). Господь велел познавать людей из действий их, из поведения, из последствий, которые вытекают из их действий.
Вем аз гордость твою и злобу сердца твоего (1Цар.17:21), говорил Давиду ближний его; но Бог засвидетельствовал о Давиде: обретох Давида раба Моего, елеем святым Моим помазах его (Пс.88:21). Не тако зрит человек, яко зрит Бог. Яко человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце (1Цар.16:7).
Слепые судьи часто признают смиренным лицемера и низкого человекоугодника: он — бездна тщеславия.
Напротив того, для этих невежественных судей представляется гордым не ищущий похвал и наград от человеков и потому не пресмыкающийся пред человеками, а он — истинный слуга Божий; он ощутил славу Божию, открывающуюся одним смиренным, ощутил смрад славы человеческой и отвратил от нее и очи, и обоняние души своей.
«Что значит веровать?» — спросили одного великого угодника Божия. Он отвечал: «Веровать — значит пребывать в смирении и милости» (Алф. Патерик. Об авве Пимене Великом).
Смирение надеется на Бога — не на себя и не на человеков, и потому оно в поведении своем просто, прямо, твердо, величественно. Слепотствующие сыны мира называют это гордостью.
Смирение не дает никакой цены земным благам, в очах его велик — Бог, велико — Евангелие. Оно стремится к ним, не удостаивая тление и суету ни внимания, ни взора. Святую хладность к тлению и суетности сыны тления, служители суетности называют гордостью.
Есть святой поклон от смирения, от уважения к ближнему, от уважения к образу Божию, от уважения ко Христу в ближнем. И есть поклон порочный, поклон корыстный, поклон человекоугодливый и вместе человеконенавистный, поклон богопротивный и богомерзкий: его просил сатана у Богочеловека, предлагая за него все царствия мира и славу их (Лк.4:7).
Сколько и ныне поклоняющихся для получения земных преимуществ! Те, которым они поклоняются, похваляют их смирение.
Будь внимателен, наблюдай: поклоняющийся тебе покланяется ли из уважения к человеку, из чувства любви и смирения? Или же его поклон только потешает твою гордость, выманивает у тебя какую-нибудь выгоду временную?
Сильный мира сего! Вглядись: пред тобою пресмыкаются тщеславие, лесть, подлость! Они, когда достигнут своей цели, над тобой же будут насмехаться, предадут тебя при первом случае. Щедрот твоих никогда не изливай на тщеславного: тщеславный сколько низок пред высшим себя, столько нагл, дерзок, безчеловечен с низшими себя (Лествица, Слово 22, гл. 22). Ты познаешь тщеславного по особенной способности его к лести, к услужливости, ко лжи, ко всему подлому и низкому.
Пилат обиделся Христовым молчанием, которое ему показалось гордым. Мне ли, сказал он, не отвечаешь? или не знаешь, что имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? (Ин.19:10). Господь объяснил свое молчание явлением воли Божией, которой Пилат, думавший действовать самостоятельно, был только слепым орудием. Пилат от собственной гордости был неспособен понять, что ему предстояло всесовершенное смирение: вочеловечившийся Бог.
Высокая душа, душа с надеждою небесною, с презрением к тленным благам мира неспособна к мелкой человекоугодливости и низкопоклонности. Ошибочно называешь ты эту душу гордою, потому что она не удовлетворяет требование страстей твоих. Аман! Почти благословенную, богоугодную гордость Мардохея! Эта, в очах твоих, гордость — святое смирение.
Смирение — учение евангельское, евангельская добродетель, таинственная одежда Христова, таинственная сила Христова. Облеченный в смирение Бог явился человекам, и кто из человеков облечется во смирение, соделывается Богоподобным.
Аще кто хощет по Мне ити, — возвещает святое Смирение, — да отвержется себе и возмет крест свой, и по Мне грядет (Мф.16:24). Иначе невозможно быть учеником и последователем Того, Кто смирился до смерти, до смерти крестной. Он воссел одесную Отца. Он Новый Адам. Родоначальник святого племени избранных. Вера в Него вписывает в число избранных; избрание приемлется святым смирением, запечатлевается святою любовию. Аминь.
Старец Паисий Святогорец
Будем готовить себя к жизни иной30
— Геронда31, один юноша исчез, оставив своим родителям записку, что хочет покончить с собой, потому что он некрасив, а виноваты в этом они…
— Люди не постигли еще глубочайшего смысла жизни. Они не верят в жизнь иную. Все их мучения начинаются с этого. «Я несправедливо обижен, — говорит человек, — другие радуются, а я нет». Люди недовольны тем, что имеют, подмешивается эгоизм, и они мучаются. Бог любит всех людей. Каждому человеку Он дал то, что ему полезно: рост ли, отвагу ли, красоту или что-то еще. Он дал человеку то, что может помочь ему спастись, если он употребит это с пользой. Однако мир терзается: «Почему я такой, а он такой?» Но ведь у тебя есть одно, а у него другое. Один Христа ради юродивый румын, подвизавшийся на Святой Горе, рассказал кому-то из терзавших себя подобными помыслами такую историю: «Увидела лягушка буйвола и сказала: «Я тоже хочу стать буйволом!» Дулась, дулась и под конец лопнула. Ведь Бог-то кого лягушкой сделал, а кого буйволом. А лягушка чего учудила: захотела стать буйволом! Ну и лопнула!» Пусть каждый радуется тому, каким сделал его Творец.
Как только человек использует данную ему благоприятную возможность уверовать в Бога и в будущую вечную жизнь, то есть, когда он постигнет глубочайший смысл жизни и, покаявшись, перестроит ее, так сразу же придут божественное утешение с Благодатью Божией, и Благодать изменит его, изгоняя и все его наследственные недостатки. Многие покаявшиеся грешники смиренно подъяли любочестный подвиг, прияли Благодать, стали святыми, и сейчас мы с благоговением поклоняемся им и просим их молитв. А прежде они имели немало страстей, в том числе и наследственных. К примеру, преподобный Моисей Мурин. Будучи кровожаднейшим разбойником с наследственной злобой, он, едва лишь уверовал в Бога, сразу покаялся, стал подвизаться, все страсти его покинули, а Благодать Божия посетила. Он даже удостоился приятия пророческого дара, а чуткостью превзошел и самого Арсения Великого32, который происходил из великосветского римского семейства, имел наследственные добродетели и обладал большой внешней ученостью.
— То есть, Геронда, в чем конкретно заключается смысл этой жизни?
— В чем? В том, чтобы подготовить себя для нашего Отечества, для неба, для Рая. Суть в том, чтобы человек уловил этот глубочайший смысл жизни, иже есть спасение души. Веруя в Бога и будущую жизнь, человек понимает, что эта временная жизнь суетна, и готовит свой «загранпаспорт» для жизни иной. Мы забываем о том, что всем нам предстоит уйти. Корней здесь мы не пустим. Этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель: приготовиться так, чтобы, когда Бог призовет нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с Ним всегда. Когда Христос благословил пять хлебов и насытил столько тысяч людей, народ тут же сказал: «Царь бы из Него вышел что надо!» Съели пять хлебов и две рыбы и воодушевились. Однако Христос сказал им не заботиться о сей пище, потому что здесь мы не останемся. В этой жизни каждый из нас подвергается испытаниям: соответствует ли он тому, чего требует Бог.
— Геронда, что человек должен всегда иметь в своем уме для того, чтобы творить волю Божию?
— Он должен иметь свой ум в Боге, думать о том, ради чего он вступил в эту жизнь. Мы пришли сюда не для того, чтобы заниматься всем на свете и устраиваться по теплым местечкам. Мы пришли, чтобы подготовиться к жизни иной. Итак, наш ум должен непрестанно находиться там, в будущей жизни, и в том, что способно помочь нам ее достичь. С любочестием относясь ко всему, любочестно и смиренно подвизаясь, человек понимает смысл жизни духовной. Духовная жизнь есть безудержная отвага, духовный пир. Знаете, что такое пир? Познайте глубочайший смысл монашества, стяжите духовное благородство, святоотеческую чуткость. А глубочайший смысл жизни (не монашеской, а вообще) обязаны уяснить все люди. Если бы они это сделали, то совсем бы исчезли мелочные придирки, грызня и прочие проявления самости. Раз есть божественное воздаяние, то будем думать о том, как заработать маленько «денежек» для будущей жизни, а не о том, как в жизни этой держаться с достоинством и принимать человеческую славу от других.
Когда человек движется в плоскости действительной жизни, он всему радуется. Тому, что живет. Тому, что предстоит умереть. Не потому радуется, что он устал от жизни, нет, он радуется тому, что умрет и пойдет ко Христу.
— Геронда, он радуется оттого, что не противится тому, что попускает Бог?
— Он радуется, видя, что эта жизнь преходяща, а жизнь иная — вечна. Он не устал от жизни, но, думая: «Что нас ожидает, разве мы не уйдем?» — он готовится идти туда, понимая, что в этом его предназначение, смысл жизни.
Вот, к примеру, взять женщин, работающих в системе социальной помощи. У них есть доброта: бегают, бедняжки, убиваются ради других. По образованию они психологи, но бывают случаи, когда тот способ, которым они хотят помочь другим, не действует. Идет она, к примеру, утешать человека, которому отрезали ногу, а он ей говорит: «Ты вот пришла на двух ногах и говоришь мне: «Добрый день», а у меня-то нога только одна». Что она сможет ему ответить? Как она поможет ему психологией? Если этот человек не уловит глубочайший смысл жизни, то ему ничто не сможет помочь. Он должен понять, что за это попущенное Богом увечье он, если не будет роптать, получит в иной жизни накопленную небесную мзду. Поняв это, он должен радоваться. Да хоть бы и на четырех ногах ходили остальные, он должен говорить: «Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что я хожу на одной». Но, воспринимая жизнь недуховно, эти бедняжки идут утешать людей и не знают, что им сказать. Идет такая «социальная утешительница», к примеру, облегчить страдание тридцатипятилетней больной раком женщины, у которой трое детей. Что она ей скажет? Если эта мать не уловит глубочайший смысл жизни, то она будет отчаиваться, думая о том, что станет с ее детьми. И сама психолог, пришедшая ее утешать, впадет в то же самое отчаяние, если она не поймет чего-то высшего, чего-то духовно более глубокого. Ведь, не расположив сначала более глубоко саму себя, она не сможет правильно помочь и ближнему так, чтобы к нему пришло божественное утешение. Так эти бедняжки психологи не только устают телесно, но и расстраиваются, видя, что они не могут оказать людям серьезной помощи. То есть устают вдвойне.
Мы должны осознать добро необходимостью
Человек должен осознать добро необходимостью, иначе он будет мучиться. И сказать, что не все могут осознать добро необходимостью, было бы неправдой. Я такого мнения оправдать не могу. Добро в состоянии осознать необходимостью даже пятилетний ребенок. Скажем, у какого-то малыша поднялась температура. Родители зовут врача, тот говорит: «Держите ребенка крепко» — и — раз! — делает ему укол. После этого малыш, едва завидев врача, пускается в рев и убегает. Но если ему сначала скажут: «Послушай-ка, ты болен, у тебя температура. Ты не можешь ни в школу пойти, ни играть. Другие-то дети вон играют. А если ты дашь врачу чуть-чуть тебя уколоть, то температура спадет, и потом ты тоже сможешь пойти играть», то ребеночек тут же зажмурит глазки и сам протянет врачу свою ручку для укола. Я хочу сказать, что если уж малыш может осознать добро необходимостью, то насколько более это доступно человеку взрослому.
С того момента как человек поймет, что правильно, а что нет, — все, вопрос закрыт. Предположим, я вам говорю: «Я вышвырну вас из окна». Что это значит, вы понимаете. Даже умственно отсталый понимает, что если он выпадет из окна верхнего этажа, то переломает себе ноги. Он понимает, что такое обрыв и что такое ровное место, что такое хорошо и что такое плохо. Человек взрослый, читавший святых отцов, Евангелие, знает, что правильно и что нет. С этого момента надо себя переключать. Но часто, когда говоришь некоторым особам: «Почему ты это делаешь? Разве ты не понимаешь, что это неправильно?» — они начинают: «Вот, к несчастью, я такая. А почему я такая? Ведь и раньше я была такая…» — «Да оставь ты, какая ты была раньше! Сейчас, когда я тебе это говорю, что ты делаешь, чтобы исправиться?» Если у них не соображает голова, то это другое дело, тогда у них есть оправдание. Но только младенец схватит вместо карамельки уголек по той причине, что у него не соображает голова.
— Геронда, Ваша мать была очень чутким человеком, любила Вас. Как же она с самых пеленок воспитывала вас в строгости?
— С младых ногтей человек может помочь себе в том, чтобы постичь глубочайший смысл жизни и радоваться по-настоящему. Когда я был маленьким и бегал с ребятами наперегонки, то оставлял их позади. Они не давали мне бегать, прогоняли меня, дразнили эмигрантиком, беженцем. Я приходил к маме в слезах. «Что ты плачешь?» — спрашивала меня она, — «Мне ребята не дают с ними бегать», — отвечал я ей. «Тебе хочется побегать? Вот двор, бегай. Почему ты хочешь бегать на улице? Чтобы на тебя смотрели и говорили «молодец»? В этом есть гордость». В другой раз мне хотелось играть в мяч, а ребята опять меня прогоняли. Я снова плакал и шел к маме. «Что случилось, почему ты опять плачешь?» — спрашивала меня она. «Ребята не дают мне играть в мяч!» — говорил я. «Двор у нас большой, мячик у тебя есть, играй здесь. Что, хочешь, чтобы на тебя смотрели и любовались? В этом есть гордость». И тогда я подумал: мама права. И потихоньку мне расхотелось и бегать, и играть в мячик, чтобы меня видели, потому что я понял, что в этом есть гордость. «И правда, — думал я, — какая же все это чепуха! Мама права». И после, видя, как другие дети носятся, бьют по мячу и хвалятся этим, я не очень переживал. Я смеялся и говорил: «Ну чего вытворяют?» — а сам был тогда маленьким: в третий класс начальной школы ходил. Потом я жил естественной жизнью. И сейчас, если меня спросят: «Что выберешь: подняться в августе месяце босиком по колючкам на вершину Афона или же поехать на какое-нибудь торжество, где тебя облачат в мантию и осыпят почестями?» — то я скажу, что предпочитаю босиком подняться на Афон. Не от смирения, а оттого, что мне это по душе.
Люди, имеющие гордость, в детстве не получили обстоятельного христианского воспитания. Мирское мышление человека мучает. Если кто-то запустит себя в этом отношении, если родители не помогут своим детям, когда те еще маленькие, то после это станет уже состоянием. Одно дело — это маленько похвалить ребенка, чтобы он не падал духом, другое — раздувать его эгоизм. Скажем, ребенок спутался, читая стишок, и теперь унывает. Его мама, видя это, говорит ему: «Ну всё, всё. Хорошо прочитал». Однако если он прочитал стихотворение хорошо и мать начинает нахваливать его перед другими: «Ну какой же ты молодец! Ты прочитал лучше всех детей! Мой ребенок лучше всех!» — то это плохо. Так родители часто культивируют в детях гордость. Или, к примеру, ребенок наозорничал в школе и его за это отчихвостил учитель. Он приходит домой и жалуется отцу: «Учитель несправедливо меня отругал». Если отец и мать встают на сторону ребенка и к тому же в его присутствии говорят про учителя: «Я вот ему покажу! Да как он смел, да моего ребенка!..» — то ребенок потом считает свое озорство правильным, а в итоге мучается из-за пустяшных вещей. Основа всему в том, чтобы дитя кое-что поняло еще в родительском доме. Если человек с юных лет усваивает глубочайший смысл жизни, то потом все идет как нужно. В противном случае он получает удовольствие от тленного, от человеческих похвал, которые в действительности не приносят ему покоя, и остается тленным человеком.
Поможем миру в покаянии
— Геронда, что сегодня способно помочь миру больше всего?
— Если бы миру преподавалось сегодня покаяние, то помочь могло бы только оно. Чтобы получить пользу, будем читать как можно больше житий тех святых, которые обращают особое внимание на покаяние. Просить у Бога покаяния — это значит просить просвещения. Испрашивая покаяния и сильнее каясь, мы, естественно, придем в большее смирение. А тогда по необходимости придет большая божественная Благодать, просвещение от Бога. Пребывая в покаянии, человек хранит Благодать Божию. Люди-то ведь хорошие. Вон большинство: не исповедуется, не причащаетеся, находится в великом неведении, но, с другой стороны, приходят ко мне и просят помощи. Что-то в этом кроется.
— Геронда, может быть, поводом для того, чтобы люди приблизились к Богу, становятся испытания?
— Тем, в ком есть доброе расположение, испытания помогают. Те, в ком такого расположения нет, начинают обвинять Бога, хулить Его, оправдывать себя. Зло в том, что люди не признаются: «Согреших», но терзаются. Дьявол имеет в мире великую власть. Мы дали ему много прав. Во что же превратился сегодняшний человек! Зло в том, что он, не имея покаяния, препятствует Богу вмешиваться и помогать ему. Если бы было покаяние, то все бы наладилось. Нас ждут грозы, грозы! Да прострет Бог Свою руку! Будем просить покаяния всему миру. Будем молиться и о тех, кто сознательно делает зло Церкви и не намерен исправляться, чтобы Бог дал им покаяние, а потом забрал их в лучший мир.
Поможем, насколько это возможно, миру в покаянии, чтобы приять Божии благословения. Покаяние и исповедь — вот что нужно сегодня. Мой неизменный совет людям: кайтесь и исповедуйтесь, чтобы дьявол был лишен прав, а вы прекратили подвергаться внешним бесовским воздействиям. Чтобы люди поняли и покаялись, им требуется встряска. К примеру, человек исповедуется в том, что совершил прелюбодеяние. Духовник читает над ним разрешительную молитву, накладывает на него епитимью и на этом останавливается. Но духовник должен помочь ему понять, что зло не заключалось лишь в прелюбодеянии. Кающийся должен осознать, что, сделав это, он стал преступником, разрушил две семьи. Но некоторые духовники ни сами не копают глубже, ни людей не заставляют задуматься.
— Геронда, есть люди добрые, однако редко ходящие в храм, не принимающие регулярного участия в церковных таинствах…
— Бывают случаи, когда кто-то нечасто ходит в церковь, но имеет в себе благоговение, доброту, и поэтому Бог находит Себе место и обитает в нем. Если бы эти люди участвовали в таинственной жизни Церкви, то они бы весьма преуспели в жизни духовной. А другие ходят в храм, исповедуются, причащаются, делают все, что нужно, и, однако, Бог не находит Себе места, чтобы вселиться в них, поскольку в них нет смирения, доброты, настоящего покаяния. Для того чтобы прийти в надлежащее устроение, одной исповеди перед духовником недостаточно. Должно быть и покаяние. И каждую молитву надо начинать с исповеди Богу. Не так, конечно, чтобы, не переставая, плакаться: «Я такой, сякой, эдакий!..» — а потом продолжать свою старую песню. Это не переживание греха. Переживая, человек становится хоть немного, да лучше.
Помните, с какой простотой молились израильтяне? «Востани, векую спиши. Господи»33, то есть «Проснись, Господи, что же Ты спишь?» И Господь после «востаяко… силен и шумен от вина и порази враги Своя вспять…»34 С какой простотой, с каким смирением, но и с каким дерзновением рекли они: «Господи, что мы теперь скажем язычникам? Ты спас нас в Чермном море, а что нас ждет сейчас? Умирать в пустыне или же попасть под меч иноплеменных? Не выставляй же нас на посмешище!»35 Но только не вздумаем и мы открыть свой рот и ляпнуть подобное: «Что же Ты спишь, Господи, и не видишь?» — потому что за это мы можем получить по макушке. Это будет безстыдством. Израильтяне рекли это со смирением и простотой. Они не перекладывали ответственность на Бога, не говорили Ему «Зачем Ты так сделал? — но каялись и просили — Мы достойны зол много больших, но что мы теперь скажем язычникам?» И видите? Они сразу же приклонили Бога на милость. Вам это понятно? Присутствовало признание ошибки, покаяние, Бог вмешался и «порази враги…» А если и мы окажемся в трудной ситуации и не поведем себя духовно, то люди мира сего скажут о нас: «Ну и где же ваша молитва? Вы ведь говорите, что молитесь. Что же вы, а?» Так мы становимся посмешищем.
Покаяние содействует исчезновению зла
Прося миру покаяния, будем причислять к провинившимся и себя. В молитве не надо говорить: «Помоги миру, миру, который грешен». Три библейских отрока родились в вавилонском плену, однако не говорили: «А чем виноваты мы? — но исповедовались пред Богом — Нам досталось поделом, мы были достойны и большего». Они говорили так, как если бы до вавилонского пленения находились среди тех, кто преступил Божии заповеди, как если бы и они соучаствовали во грехе, хотя на деле они были ему непричастны, поскольку в те годы еще не родились на свет. Их молитва в вавилонской пещи трогает меня за сердце. «Праведен еси о всех, яже сотворил еси нам… Яко согрешихом и беззаконновахом… И ныне несть нам отверзшиуст… Не предаждъ убо нас до конца?… И не отстави милости Твоея? От нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе?..» То есть: «Поделом, Господи, ты нас наказываешь, ибо мы согрешили. Но только лишь ради Авраама, которого Ты любишь за то, что он не согрешил, не оставляй нас». Они причисляли ко грешникам и себя и верили в то, что говорили устами. Потому и стала пещь прохладной, тогда как язычников, пришедших на нее посмотреть, опалило пламя36.
Не совершая такой работы над собой, человек начинает постоянно находить себе оправдания. «Меня подтолкнул на грех дьявол», или «виноват Адам», или «виновата Ева, а не я виноват». Один «богослов-профессионал» заявил мне как-то раз: «А почему мы должны теперь страдать из-за Евы?» — «Мил человек, — ответил ему я, — тебе это, что, мешает спастись? Что ты прицепился к горемыке Адаму и к страдалице Еве? За одну погрешность — и столько веков томиться в аду! А к нам пришел Христос и спас нас». — «Если согрешите семьдесят крат седмерицею, — сказал Он, — и покаетесь, то Я вас прощу»37. Мы грешим тысячи раз, но, только бы мы каялись искренне, Христос нас прощает. А мы будем говорить, что виноваты Адам и Ева? И глядите: ведь никому не дают имя Ева. Давайте-ка мы назовем какую-нибудь послушницу при постриге Евой или, по крайней мере, Зоей38, если имя Ева кажется тяжелым. Ведь это же очень несправедливо так относиться к Еве! Она родительница всех нас, она матерь всего мира, а мы даже имени ее не хотим слышать! И проклятию Бог, в сущности, подверг дьявола. «Змей был мудр»39. Дьявол вошел в змею, чтобы обмануть человека. Смотри: ведь как все валят на Еву. Говорят, что это она нас погубила, что если бы не ее преслушание, то мы сейчас в Раю жили — не тужили бы. А вот если бы и мы услышали от Христа: «Один раз допустили погрешность — отправляйтесь-ка на столько-то веков в ад!» Вот тогда бы пусть поговорили!.. Какой же все-таки неблагодарный мир!..
Так или иначе, покаяние — это великое дело. Мы еще не осознали, что покаянием человек может изменить решение Бога. То, что у человека есть такая сила, — это не шутка. Ты делаешь зло? Бог дает тебе по загривку. Говоришь «согреших»? Бог изменяет гнев на милость и подает тебе Свои благословения. То есть, когда непослушный ребенок приходит в разум, кается и испытывает угрызения совести, его Отец с любовью ласкает и утешает его. Уклонившиеся от заповедей Божиих израильтяне семьдесят пять лет прожили в вавилонском плену. Но в конце концов, когда они покаялись, царем стал Кир, о котором можно сказать, что он повел себя лучше, чем сыны Израилевы, осквернившие жертвенные святыни. Бог изменил образ мыслей Кира и соделал его верующим в Бога Небесного. И вот Кир дарует израильтянам свободу, дает им деньги, дерево для строительства храма, возводит им стены вокруг Иерусалима и проявляет такую доброту и такое благоговение, которого, да будет позволено сказать, не проявляли даже [сами] израильтяне40. И все потому, что народ покаялся и изменился41. Видите, как покаяние содействует исчезновению зла!
Надо обязательно читать все книги Маккавейские. Это исключительно сильные книги. Каково было повеление царское! Растоптать иудеев слонами! Назначили ответственных, приготовили все для казни, чтобы разъярить пятьсот слонов, напоили их крепким вином с ладаном и ждали царя, чтобы начать казнь. Но царь отданное им приказание забыл. Идет к нему начальник над слонами и говорит: «Царь, тебя ждем. Слоны, иудеи — все готово. И гости заждались». — «А кто вам велел все это делать?» — отвечает царь. Крики, угрозы!.. И это не один раз, а трижды*. Чтобы царь забыл приказание, которое он сам отдавал? Это вам не шуточки. И не только забыл, он вообще поменял потом свое отношение к иудеям. В этом основа всего: чтобы мир покаялся.
— Геронда, есть ли прок от различных международных объединений, занимающихся борьбой за мир во всем мире? Помогают ли они его сохранять?
— Это зависит от многого. Есть и такие, кто затевает все это с добрым расположением. Но бывает, что соберется такой «букет»! Тут тебе и колдуны, и огнепоклонники, и протестанты — такая мешанина, в глазах рябит! И борются «за мир во всем мире!» Какой от них прок? Да простит меня Бог, но эти «винегреты» стряпает дьявол. Если само объединение грешное, то какой там может быть мир! Как придет мир, если люди не примирились с Богом? Только когда человек примиряется с Богом, приходит мир — и внутренний и внешний. Но для того, чтобы человек примирился с Богом, ему нужно прийти в чувство. Надо покаяться и жить согласно заповедям Божиим. Тогда в человека вселяются Благодать и мир Божий. И тогда он в состоянии помочь тому, чтобы вокруг него тоже сохранялся мир.
Святитель Лука. Толкование на молитву святого Ефрема Сирина42
Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина — о праздности
Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!
Так начинает святой Ефрем Сирин свою великую молитву. Почему начинает он с прошения избавить от праздности, как будто нет более тяжких пороков, чем праздность?
Святой Ефрем говорит о праздности, а ему виднее, чем нам, что важнее, что гибельнее, какой порок сильнее, опаснее, и, если говорить о праздности, начинает свою молитву с моления не дать духа праздности, значит, праздность есть весьма опасный порок.
Наблюдая праздность с обычной, житейской точки зрения, видим, что праздность презренна, заслуживает всеобщего осуждения. Смотрите, как низки праздные люди, не хотящие работать, проводящие свою жизнь в полной праздности и доходящие до многих-многих пороков. Праздность является матерью огромного количества пороков. Лежат праздные люди, ничего не делая, сидят и мечтают. О чем? Ни о чем, мысли их блуждают часто совершенно безцельно; они вспоминают прошлое, то счастье, те радости, которые пережили, мечтают, чтобы все это повторилось. Думают только об этом, ни о чем серьезном, не сосредотачиваются мыслью своей на глубокой серьезности жизни, на огромной ответственности, которая лежит на каждом не только пред людьми, но и пред Самим Богом.
Праздный человек — вредный член общества, вредный член государства. Праздность доводит до больших и тяжких пороков. Праздные люди не способны работать, впадают в бедность, в нищету. Сами по себе не приходят деньги, не приходит богатство, работать не хотят, а ничто не приходит само по себе, и человек нуждается во всем, что необходимо для жизни, и кроме того, в том, что превышает предел необходимого: нужны ему удовольствия, нужна роскошь в жизни.
Чтобы достать денег, он измышляет разные, нередко греховные, средства, становится способен на всякую низость, на темные дела, воровство, ложь, обман, взятки. Так презренна праздность уже с точки зрения чисто житейской.
А что скажем, если будем говорить о праздности в духовной жизни нашей? Неужели она заслуживает меньшего осуждения, чем в области жизни нашей материальной? Еще гораздо более гибельна она в жизни духовной. Всякая способность наша, остающаяся без упражнения, теряется. Если музыкант, достигший совершенства в игре, перестает упражняться, на долгие годы оставит совсем музыку, он теряет свое совершенство в игре.
Каждый орган нашего тела без упражнения приходит в состояние вялости, неспособности работать. Человек, который всегда лежит и лежит, теряет способность ходить. Кто не работает руками своими, доводит мускулы рук до дряблости. При физическом бездействии силы тела угасают.
Также и способности души: всякая духовная способность, оставленная без упражнения, теряется. Если человек не молится, то теряет способность молиться. Человек, который всегда отвергает пост, не заставит себя молиться. Кто не следит за духом, за сердцем своим, становится распущенным в духовном отношении, никогда ни за чем не следит. Душа, оставшаяся без упражнения, становится подобной ниве, не возделанной несколько лет, которая зарастает бурьяном, негодной травой, колючками, которую трудно сделать плодоносной. Праздность духа, неупражнение в добрых делах приводят к гибели души, к зарастанию души всеми сорными травами греха. Как это ни тяжело, в этом еще не вся беда.
Гораздо большая беда, что теряем дни духовного делания — краткие дни своей жизни, а они даны от Бога для того, чтобы достичь великой и святой цели, чтобы подготовиться к Страшному Суду, к ответу на Суде, чтобы стали мы достойными в очах Божиих, чтобы не поставил Он нас в левую сторону и не сказал: Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф.25:41).
Жизнь нам дана для того, чтобы мы спешили, спешили делать великое дело очищения сердца своего, следуя за Господом Иисусом Христом. А ведь это следование — напряженное делание, нередко тяжкий труд, а не праздность. Это перенесение страданий за Господа Иисуса Христа, а праздность не страдает, избегает страдания.
Знаете ли вы, что все святые, которые, казалось бы, и не нуждались в труде, которые все время жизни посвящали духовным подвигам, делили время суток на три части: одну часть — молитве, другую часть — чтению слова Божьего, одну часть — работе, труду. Они жили в пустыне, в дикой Ливийской пустыне, жили в лесах Дальнего Севера, в непроходимых дебрях, и посвящали труду одну часть своего времени.
Разный труд избирали они: плели корзины, рогожи, разводили огороды, рубили лес, строили келии, церкви и целые монастыри. То, что делали руками, продавали в ближайший город, питались сами и питали нищих. Считали они труд важным и необходимым делом.
Святой апостол Павел проповедовал по целым дням Бога, а по ночам делал палатки. При свете луны или лампы он усердно трудился, считая для себя обязательным труд. Главный труд, главное его стремление было в том, чтобы бежать, чтобы спешить сколько было сил к цели — бежать в Царство Божие.
Знаете ли его удивительные слова: Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе (Фил.3:13-14).
Он, нисколько не считая себя достигшим, стремился все вперед, забывая уже достигнутое, стремился к цели высшей, к получению высшего звания Божественного во Христе Иисусе.
Это пример жизни, противоположной жизни праздных людей. Никакого следа праздности не найдете в жизни апостола Павла, в жизни отшельников-постников, в жизни монашеской, в жизни великих святых. Все они занимались с утра до ночи. Праздности чуждались, праздность считали великим и гибельным злом.
Надо, слыша молитву святого Ефрема Сирина, которая так часто повторяется, внимательно вслушиваться в каждое слово молитвы, запоминать, вникать в смысл этих слов и запечатлеть их навсегда в сердце своем. Буду помогать вам запечатлевать их. Сегодня запечатлел прошение святого Ефрема об избавлении от духа праздности.
Помните, что жизнь коротка, надо спешить, спешить, как апостол Павел спешил, — надо спешить в делании Господу. Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина — об унынии
Господи и Владыко живота моего! Дух уныния не даждь ми.
Что такое дух уныния? Это то, что называют упадком духа. Люди, совсем не понимающие христианства, не понимающие нашей духовной жизни, думают, что вся религия христианская полна духом уныния. Глядя на монахов, ходящих в черной одежде потупив глаза и перебирая четки, думают, что вся религия уныла, как вид монахов. А это совсем не так. Это противоречит тому духу, которым проникнуто все христианство, ибо скажите, человек с упадком духа может ли обладать силой духовной, бодростью духовной, необходимыми для того, чтобы идти по узкому пути, неутомимо борясь с бесами? Конечно, нет.
Наша религия — не религия уныния, наоборот, она — религия бодрости, энергии, силы воли, силы характера. Религия наша плодом своим имеет не уныние, а нечто совершенно противоположное, то, о чем говорит апостол Павел: Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона (Гал.5:22-23).
Вот это подлинный дух, сущность нашей религии: вовсе не уныние, а праведность, мирная радость о Духе Святом. Разве обладающий этой радостью может быть унылым? Конечно, нет.
Люди часто ошибаются, оценивая внешность человека. Подлинный христианин не имеет такого вида, как люди, предающиеся радостям жизни. Он всегда мирен, часто бывает на вид глубоко задумчив, ходит, опустив голову, предаваясь своим размышлениям. Разве значит это, что он уныл, упал духом? Это значит, что радости мирские, которые ценят другие люди, далеки от христиан, чужды ему, как чужды взрослому человеку детские игры и забавы.
Мысли христианина сосредоточены на вечном, на Царстве Божьем, обращении к Господу Иисусу Христу, поэтому он всегда серьезен и задумчив. Иногда бывает, что и христиане становятся по временам унылыми, наступает упадок духа. Они, уже далеко уйдя по пути Христову, пути отречения от мира, иногда мыслями возвращаются на прежний путь; им кажется, что напрасно сошли они с этого пути, что хорошо было бы идти по широкому проторенному пути, по которому идет большинство людей. Тогда впадают в уныние.
Это состояние тех людей, которые познали великие тайны Христовы, оставили широкий путь соблазнов мира, пошли по пути страданий за Христом. Их соблазняет дьявол, останавливают легионы бесов, мешают идти по Христову пути, представляя картины радостной жизни, которую оставили, картину счастья семейного, блаженства дружбы, тянут с великого пути обратно, обратно на этот путь.
И нередко бесам удается достигнуть своего: человек впадает в уныние, падает духом, теряет ревность о Господе Иисусе Христе, и это уныние — великая опасность, подстерегающая каждого христианина на пути его за Христом, это соблазн дьявольский. Этим наветам духов тьмы подвергались все святые, и в огромном большинстве случаев молитвой, постом, бдением побеждали христиане духа уныния, навеваемого от дьявола. Но были и такие, дух уныния в душах которых все возрастал и возрастал, и уходили они с пути Христова. А когда уходили, чувствовали себя оставленными Богом, пустота и тяжесть жизни становились им невыносимыми, и кончали они часто жизнь самоубийством.
Вот почему все святые считали уныние великой опасностью, великим несчастьем и все силы направляли на борьбу с духом уныния.
В уныние могут впадать даже люди святые. Почему, откуда? Уже не от сатаны, не от духов тьмы. Уныние возникает, когда временно бывают они оставлены Божьей благодатью. Это бывало со всеми святыми, это необходимое испытание каждого подвизающегося в благочестии. Необходимо оно, чтобы человек не приписал себе, своим силам, своим достоинствам, все, чего уже достиг. Нужно ему напомнить, что не своими силами достиг этого, а только Божьей благодатью.
Когда человек достигнет высокой жизни, возомнит он иногда о себе, и Божия благодать его на время оставляет. Впадает он тогда в тяжелое, невыносимое состояние духа, сердце в нем сразу пустеет. Вместо тепла, от Бога посылаемого, водворяется в сердце холод, настает вместо света непроглядная тьма, вместо радости — глубокое уныние. Это Господь делает для того, чтобы напомнить подвижнику, что не своими силами, а благодатью Божией идет по Христову пути.
Это один источник уныния. Какие еще есть источники его? Я говорил вам о праздности, вам должно быть понятно, что праздность — одна из матерей уныния. Люди праздные, не работающие и вполне обеспеченные, утопающие в роскоши, люди, которые пресыщены благами жизни, теряют вкус к жизни, все им надоедает, все становится неинтересным, скучным, ни в чем не находят радости, сердце их наполняет уныние — этот тяжкий и опасный враг нашего спасения.
Еще один источник уныния: есть люди, которые склонны видеть все в мрачном свете, их называют пессимистами. Они склонны быть в таком настроении, сосредотачивать мысль на темном — греховном. Ставят они вопрос: где справедливость Божия, где правда, если бедный, но благочестивый страдает, а неверующий богат, идущий кривыми путями блаженствует?
Если склонен человек замечать в жизни только темное, только дурное, овладевающее им уныние все возрастает, доходит до того, что человек не видит ничего доброго и кончает жизнь самоубийством. Так силен дух уныния. Второй раз говорю, как может он довести до самоубийства.
Есть и еще источник уныния, наиболее частый источник. Это горести, прискорбные случаи, которые испытываем в жизни. Умрет близкий, любимый человек, умрет ребенок, муж, мать. Впадает человек в уныние. Свет ему не мил, думает только об умершем своем дорогом, человек бедный блуждает мыслью около могилы, представляет себе своего близкого лежащим в гробу и разлагающимся. Глубже и глубже становится уныние.
Какое средство избавиться от этого уныния? Не надо блуждать около могилы мыслями своими, вспоминать прошлое, проливать слезы. Умерший далеко-далеко. Надо унестись туда, куда ушел дорогой, любимый всей силой мысли. Знайте, что душа его предстоит Богу и ангелам, радуясь своему освобождению. Если сосредоточиться не на темном, а на светлом, не на тленном, а на вечном, — дух уныния уйдет.
В уныние повергают иногда тяжкие телесные болезни. Есть много людей, нетерпеливо переносящих болезни. А были люди святые, которые всю свою жизнь лежали прикованные болезнью к постели и славили за это Бога. Нужно помнить о таких и уметь принимать посылаемые от Бога болезни. Не надо отказываться от помощи врача, ибо премудрый сын Сирахов говорит: Врача сотворил Бог на помощь людям.
Врач — это слуга Божий, который может облегчить страдания и отогнать дух уныния.
Вот каковы источники и причины уныния. Главное средство борьбы с ними — молитва. Это средство, много-много веков испытанное всеми святыми. Нет средства более действенного, чем молитва, постоянная просьба к Богу о помощи.
Когда вступаете в беседу с Богом, Он утешает вас, отгоняет духа уныния. Когда приходите в храм Божий, где все так далеко от мирской суеты, вслушивайтесь в песнопения, и уйдет дух ваш из темной области уныния и воспарит.
А если приступите к могущественному средству борьбы с унынием, которое дал Господь Иисус Христос, если на исповеди откроете сердце пред пастырем Церкви и если вслед за этим причаститесь Тела и Крови Христовой, почувствуете облегчение и радость, и тогда дух уныния с позором будет прогнан от вас.
Не сосредотачивайте мыслей на мрачном, на греховном, на тяжком, но, возносясь духом горе, сердцем своим пребывайте у Бога, в чертогах небесных, куда нет доступа темным духам, навевающим уныние.
Вот что нужно знать об унынии каждому христианину.
А что сказать о людях, не знающих почти Христа, идущих путем мирским, ищущих радость и утешение от мира? Они по виду часто кажутся довольными, бодрыми, веселыми, как будто нет у них уныния. Не думайте, что это так, не соблазняйтесь их видом, но подумайте об уклонении их с пути. Если бы знали, что происходит в глубине их сердца. В глубине их души никогда не прекращается обличение совести. Совесть услышать никто не может. Внутренний человек поднимает временами голову и начинает вопить. Это постоянное страдание тех, кто гонится за мирским благополучием. Апостол Павел говорит: Печаль яже по Бозе покаяние нераскаянно во спасение соделывает, печаль же мирская смерть соделывает (2Кор.7:10).
Если не обратитесь от печали по миру к печали по Богу — погибнете. Помните о тяжести уныния, помните, что сердце христианина должно быть наполнено радостью о Духе Святом, радостью стремления к свету, должно быть чуждо печали, которая наполняет сердца грешников.
Помните об этом всегда, и да помилует вас Господь Бог, а святой Ефрем да содействует вам молитвами своими. Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина — о любоначалии
Господи и Владыко живота моего! Дух любоначалия не даждь ми!
Что такое дух любоначалия? Это стремление первенствовать, властвовать над другими, занимать первое место. Это стремление первенствовать погубило архангела — главу всех ангелов — и сделало его сатаною, низвергло его с неба. Это стремление господствовать погубило Корея, Дафана и Авирона, которые позавидовали славе Моисея, когда он вел народ израильский по пустыне в землю Ханаанскую; они хотели низвергнуть его и присвоить себе власть, и покарал их Господь страшною казнью: земля разверзлась и поглотила их со всеми семьями их.
Любоначалие двигало всеми еретиками, превозносившимися над Церковью Христовой, они свое хотели поставить вместо течения Церкви, или же хотели стать вождями в Церкви.
Любоначалие двигало всеми людьми, которые потрясали мир государственными восстаниями своими. Были писатели с развращенными мыслями, которые развращали целые поколения.
Любоначалие — страсть властвовать — Господь Иисус Христос осудил в речи против книжников и фарисеев, лицемеров. Осудил их страсть быть первыми, их желание предвозлежать на пиршествах, получать приветствия, приличествующие вождям народа. Господь осудил их и сказал ученикам Своим, а чрез них всем нам: Кто хочет быть первым, пусть будет всем слуга (Мф.23:11). Это противоположно любоначалию — велит стремиться не к высокому положению, а быть последним, быть слугой всем.
Видите, как любоначалие — страсть иметь влияние, страсть занимать первое место, как она противна духу Евангелия, духу смирения. А она владеет всеми, нет никого, кто не был бы заражен ею — даже малые дети. Знаем, как бывает при играх детей: выделится какой-нибудь мальчуган, начнет командовать, потом повелевает всеми, в драку готов вступить, когда кто-нибудь оспаривает его первенство вождя.
Даже среди отшельников, даже в монастырях, где не должно быть любоначалия, где все должны помнить завет быть всем слугой, даже там владеет людьми любоначалие, хотя в сокровенной форме. Пред людьми они не домогаются первенства, но чрезмерным постом и бдением стараются первенствовать над всеми.
В жизни мирской страсть эта владеет всеми: все добиваются высшего положения, жаждут поощрения, все желают почета. Многие родители воспитывают в детях своих честолюбие, страсть первенствовать, стараются, чтобы они заняли в жизни высшее положение, и этим развращают детей своих.
Разве не надо понять, что высшее положение — удел немногих, не могут все первенствовать, занимать высокое положение. По сути дела, это удел людей исключительных, отмеченных Богом. Чрезвычайно многие стремятся занять такое общественное положение, не брезгуют никакими средствами для достижения этой цели, пускают в ход связи, заискивают, прислуживаются, не гнушаются никакими средствами, чтобы только добиться своей цели, занять высокое положение в обществе, стать одним из власть имущих.
Часто-часто Господь карает их: несчастная страсть их кончается крахом. Они озлобляются, отказываются от общественной работы, уходят в круг семьи и замыкаются в семейной жизни. Но самолюбие и тут терзает их, а они терзают семью, терзают ближних своих, и нет покоя в их душе.
Вот плоды любоначалия, вот почему святой Ефрем в великой молитве своей просит Бога избавить его от тлетворного духа любоначалия, столь противоположного смирению, без которого нельзя и шагу ступить в христианской жизни.
Если так, если не нужно домогаться высшего звания, домогаться первенства, разве можно сказать, что не должны мы стремиться подняться, домогаться высшего достоинства, но именно только высшего, не тленного и ничего не стоящего достоинства, а стяжать то достоинство, которое велико в очах Божиих. Указан нам всем путь к почету, выше которого нет, с которым не сравнятся никакие земные достижения, никакой почет. Указан нам путь в Царство Божие, сказано, что мы можем стать друзьями Божьими, детьми Божьими. Этой цели достигнем только стремясь исполнить все Христовы заповеди. Не надо смущаться, если поставлены мы в положение низкое, незаметное в обществе, надо помнить, что Господь умеет вывести нас на чрезвычайно широкий путь, когда не ждем, не стремимся к славе земной.
Господь нередко помимо старанья и воли нашей дает эту славу. Слава бежит от тех, кто гонится за ней, кто ее жаждет, и находит тех, кто бежит от нее. Истинная слава, слава от Бога, дается тем, кто не гонится за ней.
Надо, не помышляя о власти над людьми, вникнуть в то, как можно развить способности свои и таланты, данные от Бога; смиренно, тихо углубиться в развитие способностей своих в тиши, в неведении миру. И может быть случится, как случалось уже не раз, что Господь возведет такого человека на недосягаемые вершины славы.
Знаем много примеров из истории науки и философии, из жизни крупных деятелей науки, которые проводили жизнь в нищете, в неведении миру, бывали даже преследуемы и гонимы, были в полном противоречии тому, чего ищут люди, зараженные пороком любоначалия; они в тиши, в бедности, в уединении работали над задачами науки и философии и творили дела, которые прославили их в истории человечества, сделали их яркими звездами прогресса человечества.
Помните, Господь умеет отметить людей, отличить дела человеческие, творимые по заповедям Христовым. Кто хочет бить первым, да будет последним, да будет всем слуга.
Молитесь с Ефремом Сириным об избавлении от тяжкого порока любоначалия. От этого порока да избавит вас всех Господь Иисус Христос. Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина — о празднословии
Господи и Владыко живота моего, дух празднословия не даждь ми! И святой Ефрем молится об этом, и святой пророк Давид говорит в псалме своем: Положи, Господи, хранение устам моим и дверь ограждения о устах моих.
И Сам Господь Иисус Христос сказал, что за всякое праздное слово дадим мы ответ на Страшном Суде. Вдумайтесь, как это серьезно, как тяжело: за каждое, за единое праздное слово дать ответ.
А скажите, разве есть что-либо другое, к чему относились бы легче, чем к слову? Удивительно, поразительно, как люди не понимают огромного, колоссального значения слова человеческого.
Наша способность слова в значительной мере уподобляет нас Самому Богу. Бог словом сотворил весь мир, слово Божие имеет огромную, могущественную силу. Знаете, что пророк Илья словом воскрешал мертвых, словом своим останавливал дождь, заключал небо и вызывал этим голод, низводил дождь на землю.
В чем же сила, заключающаяся в слове? Не думайте, что вырвавшееся из уст слово рассеивается в воздухе, и не остается от слова ничего. Это неверно. Слово живет, живет столетия, тысячи лет. До сих пор живут слова, которые изрекали великие Божии пророки, жившие за много столетий до Рождества Христова. Великие слова Моисея, великие слова, которые некогда говорили святые апостолы, те слова, которые изошли из уст подвижников Божиих, учение Церкви Божией, живы в течение тысяч лет.
А если слово живет тысячи лет, значит, это нечто чрезвычайно важное. Слово, исходя из уст наших, всегда производит действие, чрезвычайно глубокое на окружающих нас людей, даже на удаленных от нас людей.
Каждое доброе, мудрое слово живет в сердцах людских и приносит благие плоды на долгие годы. Всякое злое слово — клевета, ложь, злословие — тоже живет чрезвычайно долго, много лет, вселяется в умы, в сердца и близких, и далеких людей, направляет их мысли, их желания. Слыша злые наши слова, отравляются ими, подражают нам и испускают такие же злые, ядовитые слова.
Благодатные и мудрые слова святых созидают правду в мире, творят вечное добро, а злые, греховные слова приносят безчестье, ненависть, приносят огромный вред людям окружающим, даже всему человечеству.
Слова живы, несутся как волны радио, несутся в пространстве и вливаются в сердца и умы людей. Слова — огромная сила, соединяющая или разъединяющая людей. Соединяющая, когда слово полно правды и истины, разъединяющая, когда оно полно клеветы и злобы к людям. Если бы люди были лишены слова, уподобились бы они животным, и жизнь человеческая была бы расстроена.
Вот как велико, как глубоко значение человеческого слова. Вот почему молится святой Ефрем об избавлении от празднословия, от пустословия.
Вы все встречали в жизни немало людей, особенно женщин, которые болтают, болтают и болтают без конца, неудержимо, и не знает при этом язык их никакой усталости: мелет, мелет и мелет. Все, что говорят они, пусто, никому не нужно. И Ефрем Сирин молит Бога избавить его от празднословия. Боялся он пасть, чтобы язык не погубил его, а эти несчастные болтуны ничего не боятся.
Вы знаете, что этих пустословов часто люди терпят — болтают, и пусть себе болтают — а им кажется, что слушают их с удовольствием, не знают того, что в глубине сердца все тяготятся ими, ненавидят их. Так велико зло празднословия, зло, которое причиняют болтовней своей.
Если язык болтает и празднословит, то и мысли блуждают, не сосредотачиваясь ни на чем глубоком, истинном, важном, блуждают безцельно повсюду, как блуждает несчастная дворняжка, виляя хвостом. Как их мысли, так и чувства, так и направление их желаний, их деятельность — все пусто, ничтожно. Душа голодает, человек противен другим, себе самому причиняет тяжкий, тяжкий вред. Вот каково значение празднословия.
Люди мудрые, живущие жизнью духовной, никогда не празднословят, они всегда молчаливы, сосредоточенны. В Древней Греции в чрезвычайном почете были философы и мудрецы. Философы не принимали к себе в ученики никого прежде, чем человек не докажет, что умеет молчать. А разве экзамен молчания выдержал бы теперь кто-либо из празднословящих? Конечно, нет.
Если так тяжел порок празднословия, как отделаться от него, что делать с неудержимым языком нашим? Нужно делать то, что делал Ефрем Сирин: нужно молить Бога об избавлении от этого порока, и подаст просимое Господь Иисус Христос. Нужно избегать общения с людьми празднословящими, подальше, подальше уходить от них, искать общества немногих мудрых, которые отверзают уста свои, чтобы сказать что-либо полезное, от кого не услышишь праздных, душевредных слов.
Чрезвычайно внимательно следить за собой, приобрести привычку наблюдать, что говорите, чем занят язык ваш, привыкнуть держать язык в узде. Не позволяйте ему праздно болтать. Припоминайте вечером, что говорили днем, не болтали ли, не оскорбили ли кого, не лгали ли, не ябедничали ли. Если усвоите эту привычку, то привыкнете следить за языком, за каждым движением и сдерживать его.
Помните, чем больше человек сосредоточен на главном, внутреннем, на истинном, чем больше времени полагает на чтение Евангелия, Священного Писания, творений святых отцов, тем более проникается их мудростью и тем больше теряет охоту праздно болтать. Приобрести власть над языком — дело великое.
Апостол Иаков в соборном послании своем говорит: Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело (Иак.3:2).
Понимаете ли, что значит обуздать все тело? Это значит, подчинить тело высшим целям духовной жизни, обуздать все похоти, страсти, все дурное, к чему влечет плоть. Начните с обуздания языка, и если достигнете этой цели, стяжите совершенство и обуздаете все тело ваше. А если обуздаете все тело свое, будете чисты и праведны пред Богом. Этой чистоты и праведности да сподобит вас всех Господь, а молитва Ефрема Сирина да будет всегда напоминать об этом. Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина — о целомудрии
Господи и Владыко живота моего, дух целомудрия даждь ми!
Обратили ли вы внимание на то, что даже такой великий подвижник, пустынножитель, такой великий святой, как Ефрем Сирин, молился о том, чтобы Господь дал ему дух целомудрия. Неужели он, святой старец, нуждался в этой молитве? Не нам судить, он сам судил, что нужно об этом молиться, и все святые молились об этом.
Почему молились? Потому что знали, что Господь требует от них, как и от всех христиан, полного, безусловного целомудрия, целомудрия не только плоти, но и духа. Даже в помыслах наших мы не смеем и не должны нарушать целомудрия, ибо Сам Господь сказал, что всякий, кто с вожделением посмотрит на женщину, уже блудствовал с нею в сердце своем. А помыслов нечистых никто не может избегнуть, и святые долгие годы мучительно боролись с этими помыслами.
Я уже говорил вам о том, как преподобный Мартиниан, человек молодой, боролся отчаянно с этой страстью, как он, когда его соблазняла развратная женщина, сумевшая проникнуть в келлию его, стал на горящие уголья, чтобы побороть в себе плотскую страсть.
Так боролись святые десятками лет, и главным средством в их борьбе был пост, смирение и молитва, ибо все святые отцы говорят, что нет большей защиты от плотских вожделений, чем смирение.
Человек, если стяжет смирение, освобождается от них, а люди гордые, чуждые смирения, всецело обуреваются этой низменной страстью. Это запомните: смирение есть первый и самый важный способ для освобождения нас от похоти.
А знаете вы, как много среди нас легко, чрезвычайно легко относящихся к нарушению седьмой заповеди, как много таких христиан, которые не считают серьезным грехом этот грех, которые говорят: «Ведь я благочестив, стараюсь изо всех сил исполнять заповеди Христовы, стараюсь творить дела милосердия, неужели Господь не простит эту маленькую слабость»?
Говорящие так глубоко, глубоко ошибаются, ибо то, что они называют маленькой слабостью, апостол Павел называет совсем иначе. Он так строг в этом отношении, что в послании Ефесянам говорит: А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым (Еф.5:3).
Даже помышлять о них нельзя, даже говорить нельзя, как прилично святым. Он говорит, что прелюбодейцы, и блудники, и пьяницы не войдут в Царство Божие. А разве это не страшно, разве это не есть указание апостола на то, что грех против седьмой заповеди — не только слабость, которую Бог простит. Прямо говорит апостол, что нарушающие эту заповедь — блудники и прелюбодейцы — в Царство Божие не войдут.
А где же они будут? Конечно, в месте тьмы, в месте вечных мучений. Об этом задумайтесь. Не говорите никто из вас, что сама природа так устроена, что эта страсть естественна. Это совершенно неверно, природа человека устроена так, чтобы рождали люди детей, а не для того, чтобы оскверняли сами себя. Ибо говорит апостол Павел, что всякий грех есть вне тела: вне тела гордость, тщеславие, честолюбие, зависть, гнев, так как это все страсти души, а блуд и прелюбодеяние в самом теле, оскверняет не только дух, но и тело наше.
Не сказал ли апостол Павел, что тела наши суть храм Духа Святого, а если храм, то тела наши должны быть чисты, ничем не осквернены. Разрушать храм Святого Духа, делать члены тела нашего членами блудницы. Апостол с ужасом говорит: Да не будет так!
Сколько среди людей таких, которые плотскую страсть обращают в постоянное услаждение, самое нечистое, самое низменное услаждение, которое делает их равными тем животным, которые отличаются особой похотливостью: петухам и павианам.
Стыдно, стыдно человеку вообще, а тем паче человеку-христианину равняться с павианом. Стыдно, стыдно забывать, что тело его есть храм Духа Святого. Ибо говорит апостол Павел в послании своем: Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости (1Фес.4:3-5, 7).
Апостол святой сказал: Те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми (Гал.5:24).
Хотите быть Христовыми, хотите быть друзьями Христа, сынами Божиими? Если хотите, то запомните это: вы должны плоть свою со страстями и похотями распять, умертвить. Нужна огромная, повседневная борьба со своей плотью.
Эта борьба неодинаково дается различным людям, ибо есть счастливые люди, которые не имеют большой чувственности, а есть и другие, которые по природе, по наследству от родителей, страдают необычайно высокой чувственностью и похотливостью.
Знаю я такого несчастного человека — одну несчастную женщину, чрезвычайно благочестивую, которая унаследовала от родителей своих такую исключительную похотливость. Знаю, как борется она с этой похотливостью. Она борется изо всех сил, доходит до самоистязания: собирает терновник с колючими шипами и руками мнет его, чтобы шипы вонзились в руки. Она мучается, она страдает и все-таки падает. Но падают не только такие несчастные, но и многие из нас, которым гораздо легче воздержаться.
Что скажем о таком падении? Скажем, что как из всякого падения, так и из этого падения можно и должно восстать. Падаем часто, падаем во многих отношениях, а если падаем и в этом отношении, то должны из той бездны, из той пропасти, в которую упали, выкарабкиваться, всеми силами выкарабкиваться, призвав на помощь Духа Святого, как человек, упавший в пропасть, выкарабкиваться из нее.
А что делают люди, упавшие в пропасть? Они изо всех сил своих выбираются из нее, не щадя рук, обагренных кровью, исцарапанных об острые камни, своих ногтей оборванных, своих ног израненных — изо всех сил стремятся выбраться.
Так и впавшим в грех против седьмой заповеди надо выкарабкиваться из бездны падения, призвав на помощь Того, Кто дал заповедь о целомудрии, надо молиться, горячо молиться. Надо помнить, постоянно помнить, что говорит апостол: Не упивайтесь вином, в котором блуд (Еф.5:18).
В вине есть блуд, ибо ничто так не возбуждает похоти нашей, как именно пьянство: напившись вина, становится человек игралищем в руках беса блудного.
Человек, который питается излишне, который всегда праздный, который не желает работать, который живет разгульно и только занят развлечениями, танцами, хождением в театры и кино, человек, который спит, как изнеженные женщины, до 11 часов утра, будет конечно и неизбежно блудником, ибо делает все для того, чтобы похоть плотская связала его в свои путы.
А если человек занят постоянным трудом, физическим или умственным, если нет времени отвлекаться от этого труда, окончив свой труд, вечером будет стремиться только к отдыху. Поскорее насытится он необходимой пищей и ляжет спать; ему ничто так не нужно, как отдых, ему не до похоти, не до безобразия.
Итак, следовательно, смирение, пост, напряженный труд, всегдашний пост, всегдашние молитвы — это те средства, которыми можем освободиться от власти беса блудного. А как безконечно много несчастных людей, особенно среди молодежи, которые с огромным интересом и ненасытимостью читают страстные романы и повести, в которых описываются грязные картины разврата и похоти. Какой это яд! Если человек смакует их в грязном романе или повести, то он разжигает свою похоть.
А надо поступать иначе: не только не разжигать похоть порнографическими писаниями и картинами, а надо стремиться следить за похотью, и как только замечаем, что появляются в мыслях подобные образы, сейчас поймать и стараться схватить змия за шею, возле главы его, и размозжить ему голову, ибо если этого не сделаем, то змий незаметно вползет в ваше сердце и отравит вас блудной страстью. И образы соблазнительные, нечистые, которые вселит древний змий в сердце ваше, легко и быстро перейдут в любование этими помыслами, а любование ими переходит потом и в само дело.
Надо помнить то, что слышали недавно в псалме 136: надо этих «младенцев вавилонских» хватать за ноги и разбивать головы их о камень, пока это младенцы, пока не возмужали они, пока не овладели сердцем вашим.
Вот такая задача стоит перед вами: задача полного целомудрия, целомудрия не только плоти, но и духа. Но, как я сказал, очень многие легко относятся к греху блуда, не считают его тяжким, а наше дело остановить вас, заставить одуматься.
Чем можно помочь вам в этом? Тем, кто исправится и на исповеди получит отпущение этого греха, будет допущен к Святой Чаше. А если кто из вас получит на некоторое время такое отлучение от Причастия, пусть не сетует, не огорчается. Надо глубоко призадуматься и сказать себе: если так, то дело обстоит серьезно; мне это казалось малым грехом, а Церковь Святая отлучает меня от Причастия. Не огорчайтесь, не думайте, что можно и умереть, не получив Причащения Святых Тайн. Всякое запрещение Причащения снимается при опасности смертной.
Теперь понимаете, почему Ефрем Сирин молится Богу о том, чтобы дал ему дух целомудрия. Будем же мы, все грешные, все повинные в этом грехе, молиться Богу о спасении и обратимся за помощью к святому Ефрему Сирину: «Помоги, помоги нам в этой борьбе: мы слабы, а ты силен!» Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина — о смиренномудрии
Дух смиренномудрия даруй ми, Господи, рабу Твоему.
Помните, что заповедь о смирении — это первая заповедь блаженства, а если первая, значит, самая важная. Слышали ли когда-нибудь слово Божье, возвещенное пророком Исаиею: Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий — Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище и также с сокрушенными и смиренными духом, чтоб оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных (Ис.57:15).
Разве не хотите, чтобы с вами жил Сам Бог? А если хотите, запомните, хорошенько запомните: Он Сам говорит, что живет в сердце смиренных и оживляет сердца их, а как мы нуждаемся в оживлении сердец наших!
Разве не хотите, чтобы Бог призрел на вас? А если хотите, знайте и помните, что Бог призирает на смиренных сердцем. Помните, помните и слова апостола Иакова: Бог гордым противится, смиренным же дает благодать (Иак.4:6).
Разве вы хотите, чтоб Господь противился вам, разве не хотите получить благодать? А если хотите, запомните, что такое смирение, что за святая добродетель, которая так угодна Богу, за которую Бог живет с нами и призирает на нас.
Это то, что противоположно гордости. Смиренные — это нищие духом, помнящие о недостатках своих, устремляющие взор свой в глубины сердца, всегда неустанно наблюдают они за движениями сердца своего, следят за всякой нечистотой, которую увидят в сердце своем.
Святые, которые всегда исполняли заповеди Христовы, любили Христа, пред мысленным взором которых стоял всегда Господь, помнили всегда о смирении и всегда молили о нем.
Христос говорит: Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф.11:29). Господь велит научиться от Него смирению, Господь велит подражать Ему в смирении. Смирение проявлялось во всей земной жизни Господа. Оно началось с самого рождения Его, ибо родился Он как самый смиренный, самый простой, незаметный человек, родился в вертепе для скота, был положен в ясли.
А потом всю жизнь, разве не давал Он безчисленные примеры смирения? Когда Ирод возгорелся яростью, хотел убить Новорожденного Спасителя и послал воинов своих избить вифлеемских младенцев, разве не мог Господь послать один легион ангелов из легионов, которые всегда были в Его распоряжении, разве не мог Он поразить Ирода? Конечно мог, но Он предпочел проявить смирение и бежал в Египет от гнева Ирода.
А дальше сколько смирения проявил Он в жизни Своей, ходя за 200 километров пешком в Иерусалим, по первому зову нуждающихся в Его помощи, не имея где голову приклонить.
Разве не явил он совершенного, необычайного примера смирения, умыв ноги ученикам Своим? Это представляет собою предел смирения.
А о том смирении, которое явил Он перед судом и после суда, когда веден был на Голгофу, распят на кресте — о нем не смеют говорить уста человеческие, так безмерно оно, так велико.
Господь велит научиться от Него смирению. А кто теперь помнит о смирении? Смирение есть качество души человеческой, которое гордые клеймят презрением, ибо эти люди не верят во Христа, избрали не путь Христов, а иные пути: говорят, что это — дух рабства, что смиренные — рабы, лишенные качества самого нужного, необходимого, лишенные духа протеста, сопротивления силой тяжким бедствиям человечества.
Есть ли в этом правда? Никакой, ни следа. О смиренных надо сказать не то, что говорят клеймящие, а совсем иное: что они не рабы, подчиняющиеся злу и насилию, а единственные победители зла и насилия. Надо сказать, что только они ведут настоящую борьбу со злом, ибо искореняют из сердец своих и сердец других людей самые источники зла. Они не верят в то, что причина зла лежит только в несовершенстве социальных отношений.
Смиренный — это подлинный воин Христов, а не раб.
Но как мало смирения, безконечно мало теперь! Огромное большинство людей презирают смирение, стремятся к первенству и преобладанию в мире сем. Подлинно смиренных почти не найти, о смирении не думают, смирение забыто, совсем забыто. О смирении думают те, кто идет всем сердцем по пути Христову, кто учится от Него смирению. Только святые подлинно смиренны.
Это может показаться странным, как это святые, превосходящие в огромной мере других людей по нравственным достоинствам, по высоте, достигнутой ими, могут считать себя, считать совершенно искренне ниже всех других. Основа святости их в том, что они ни над кем не превозносятся, но осуждают сердце свое.
Святые с необыкновенной зоркостью наблюдали за каждым движением сердца и видели малейшую нечистоту в нем, и если видели, всегда помнили об этой нечистоте и потому считали себя недостойными пред Богом.
Люди гордые и дерзкие смеют судить обо всем самом высоком и святом, смиренные лишены дерзости, скромны, тихи. Примеры этого находим во множестве в Святом Писании и в житиях святых.
Кто более велик пред Богом, чем праведный Авраам, который слышал великие обетования и назван другом Божиим, а этот Великий никогда не переставал называть себя прахом и пеплом. Кто более велик пред Богом, чем Давид, пророк и царь, а он говорил о себе: Я червь, а не человек — поношение в людях (Пс.21:7). Это были его совершенно искренние слова. Кто был более велик пред Богом по трудам своим, чем апостол Павел? А он называет себя первым грешником, так чужд был он дерзости и превозношения: он был робок, а не дерзок, говорил о себе, что был среди коринфян в немощи и страхе и великом трепете. Это глубокое смирение — пример для нас всех, безконечно далеких от него.
Нам нужно с усердием всегда думать о смирении и просить его у Бога. Никакими усилиями собственными мы не можем эту добродетель стяжать. Смирение-великий Божий дар — получают те, кто всем сердцем своим любит Бога, стремится исполнять заповеди Христовы. Только им даст Господь этот великий дар. Их сердце смиренно, а когда смиренно сердце человека, Дух Святый поселяется в нем.
Видите, какое великое счастье быть смиренным, видите, как трудно быть смиренным. Имейте упование и знайте, что каждый шаг по пути Христову приближает вас ко святому смирению. Если такие шаги умножите и участите, как апостолы и святые, этим приблизитесь к Богу. Господь Иисус Христос говорил ученикам: Больший из вас да будет всем слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится (Лк.18:14).
Как безконечно часто сбываются эти слова Христовы, сколько гордых, стремящихся стать выше всех, потом падают ниже всех. Сколько было смиренных, ничтожных, рождавшихся в нищенской семье, бедствовавших в начале жизни своей, а потом ставших великими людьми. Такова история великих московских святителей.
Многие, многие другие тоже происходили из самой низкой общественной среды и были возвышены Богом за свое великое, безмерное смирение. Господь говорит: Многие первые будут последними, а последние первыми (Мф.19:30). Так бывает в жизни нашей, так будет на Страшном Суде. Первые станут последними, а последние, ничтожные, презренные окажутся первыми. Много-много надо труда, чтоб не забыть смирения, много-много труда, чтобы его стяжать.
Должны мы помнить слова апостола Петра: Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1Пет.5:5). Помните, Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. Помните, что даже до смерти крестной смирил Себя Господь Иисус Христос. Нам же нужно стремиться к смирению, постоянно просить его у Бога: Господи и Владыко живота моего, дух смиренномудрия даруй ми, рабу Твоему!
Знайте и помните, что если человек будет постоянно иметь в памяти эти святые слова, то получит от Бога глубокую добродетель смирения. Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина — о терпении
Господи и Владыко живота моего, дух терпения даруй ми!
О, как надо нам просить этого духа терпения! О, как надо нам стяжать терпение! Ведь Сам Господь сказал: Терпением вашим спасайте души ваши (Лк.21:19).
В терпении спасение души нашей. Почему это так? Потому что сказал Господь Иисус Христос: Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь (Мф.7:14). Труден, труден этот путь, и сказал нам Господь, и говорят нам апостолы, что путь этот — путь жизни христианской — это путь страданий, путь скорбей. В мире скорби будете, но дерзайте, яко Аз победих мир (Ин.16:33).
Если так, если весь путь христианский есть путь страданий, путь скорбей, только в терпении спасение миру. Мы только терпением можем спасти души наши.
Апостол Иаков говорит в своем соборном послании: С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка (Иак.1:2-4).
Видите, терпение имеет совершенное действие, терпение делает нас совершенными во всей полноте без всяких недостатков. Апостол Павел говорит: Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное (Евр.10:36), — жизнь вечную, Царство Божие.
Терпите: без терпения невозможно спастись. Этот апостол, как и все другие апостолы, терпел много, много великих скорбей, гонений, преследований, и в конце — мученическую смерть. Ее претерпели все апостолы, кроме Иоанна Богослова, который в глубокой старости умер естественной смертью.
А говорит апостол Павел: Признаки апостола сказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами (2Кор.12:12). (Все увидели мое апостольское достоинство не только в чудесах и знамениях, которые я творил, но увидели и в терпении моем).
Видите, как велико терпение: апостол, наряду с чудесами и знамениями, называет терпение признаком апостольским, признаком святости, признаком друзей Божиих. Он говорит в другом послании: Мы же являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в тесных обстоятельствах.
Всем явил он лицо апостольское в великом терпении. А своему ученику, епископу Тимофею, он завещал: Ты же, человек Божий, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости (1Тим.6:11).
Если апостолу так надо было преуспевать в терпении, то как же нам, столь слабым христианам, отвергать эту добродетель? Как отвергать терпение, когда так легко начинаем мы роптать на Бога, если посылает Он неизбежные для христиан страдания? Никогда, никогда нельзя отвергать терпение, ибо без него совершенно невозможен путь в Царство Божие.
Вы знаете, что даже в мирских делах нужно великое терпение, что же скажем о нашем пути, о нашей духовной жизни? Нам оно неизмеримо важнее, чем людям мирским. Как стяжать терпение? Привыкать терпеть, привыкать не роптать — а роптать все очень склонны. И, конечно, просить у Бога терпения.
Если будем просить у Бога терпения, будем просить того, что угодно Ему, и будет с нами по слову Христову: Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него (Мф.7:11).
А это разве не благо — терпение? Прошение о терпении — это угодное Богу прошение, и Бог не оставит, Бог поможет каждому христианину, взывающему о терпении под тяжестью креста своего. Бог поможет каждому несчастному человеку, обремененному большой семьей и изнывающему в нищете, если будет просить он о терпении.
Но бывает, что просят и люди злые, идущие путем темным, греховным, творящие зло на каждом шагу; они тоже изнывают под тяжестью своей злой жизни, бывает, что и они просят терпения. А им Бог терпения не даст: это значило бы облегчить их черную, греховную жизнь, содействовать ей. Им не даст, а всем тем добрым, которые просят смиренно о терпении на своем христианском пути, Господь даст терпение, как говорит апостол Павел: Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1Кор.10:13).
Дает терпение, сверх сил никого не обременяет, только бы не впадали в малодушие, только бы помнили, что наши беды и страдания, что наше горе ничто по сравнению с тем, что претерпел за нас Господь наш Иисус Христос. И потому надо нам много терпеть, ища утешения, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную Престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими (Евр.12:2-3).
Вот чем надо укрепляться, вот откуда черпать можно, без конца черпать терпение — от креста Христова.
Взирайте почаще на Крест святой, на Спасителя, Распятого на кресте, и молитесь вместе с Ефремом Сириным: Господи и Владыко живота моего, дух терпения даруй ми, рабу Твоему. Аминь.
Молитва святого Ефрема Сирина — о любви
Господи и Владыко живота моего, дух любви даруй ми, рабу Твоему.
О любви, которая есть исполнение всего закона, о любви просим мы. Если не имеем любви, то, по слову святого апостола Павла, мы медь звенящая или кимвал звучащий (1Кор.13:1).
Если мы имеем дар пророчества и знания великие и имеем веру, горы переставляющую, но не имеем любви, мы — ничто. Если раздадим все имущество свое нищим и отдадим тело на сожжение, но любви не имеем, мы — ничто. Вот что такое любовь. Если нет любви, какими бы совершенствами ни обладали, мы — ничто.
Любовь — это все, ибо все, что говорил Господь Иисус Христос, что совершил во дни Своей земной жизни, и прежде всего то, что явил на Голгофе, есть сплошная великая проповедь о любви. Значит, любовь есть то, о чем должны просить всегда, настойчиво, постоянно. Любовь есть то, стяжать которое — величайшая и основная задача жизни нашей, ибо задача наша в том, чтобы приблизились мы к Богу, чтобы стали совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. А как приблизиться к Богу без любви? Без нее мы безконечно далеки от Бога.
Любовь — это то, что культивировали в сердце своем все святые, то, что дано от Бога, как величайший дар благодати Божией за исполнение заповедей Христовых.
Есть счастливые люди, которые рождаются с сердцем мягким, кротким, любовным; им легче достигнуть в жизни христианской любви, чем всем другим, в особенности тем несчастным, которые рождаются с сердцем грубым, жестоким, мало способным к любви.
Если человек родился с сердцем кротким, надлежит ему все-таки претерпеть весьма многое, пройти крестный путь страданий, чтобы ярким пламенем разгорелась любовь Христова в сердце его; умножить должен он эту любовь, которая дана ему.
Любовью христианской были переполнены сердца людей в древние времена, особенно во времена апостолов, когда люди любили друг друга, как братья, исполняя заповедь Христову. О них Господь мог сказать: По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой (Ин.13:35).
А теперь, где теперь любовь, кто найдет ее днем с огнем? Настанет страшное время, о котором говорит Господь, указывая признаки Своего второго пришествия. Он говорил, между прочим, и так: Тогда соблазнятся многие, и друг друга предадут, и возненавидят друг друга, и, по причине умножения беззаконий, во многих охладеет любовь (Мф.24:12).
Это видим в наше время, это то, что терзает, раздирает сердце наше. Видим множество людей, которые ненавидят друг друга, предают друг друга, в сердце которых охладела любовь, и следов ее не осталось.
Тяжко, невыносимо тяжко жить, видеть, что вместо любви Христовой свирепствует ненависть, взаимная ненависть. Какой ужас, несказанный ужас пережили мы столь недавно, когда народ, исповедующий Христа, в союзе с другими тоже христианскими народами — народ германский — сотворил такие злодеяния, такие надругательства над законом любви, каких мир не видел.
Что осталось от закона любви в тех злодеях, которые закапывали детей и стариков живыми в землю, разбивали о камни головы новорожденных, истребляли десятки миллионов людей? Где любовь? Не осталось ее и следа, любовь забыта.
Вместо закона Христовой любви мир живет законом всеобщей вражды. Кто следит по газетам, что совершается в мире, содрогается, видя, как самая сатанинская неправда торжествует, как поощряются великими державами политические насилия, заслуживающие глубокого осуждения.
А вокруг нас? Жить в городе опаснее, чем в дремучем лесу, ибо много в городе бандитов, полных злобы и ненависти. Ибо люди в городе — крещеные люди, бывшие некогда христианами, — стали злее, опаснее зверей. Попрана святая любовь, попрана грязными сапогами, попрано Евангелие Христово, о любви никто не хочет и слышать.
Что нам делать, как нам быть? Неужели и нам сделаться волками, которых так много вокруг? Конечно, нет. Любовь Христова должна сохраниться до второго пришествия Господа Иисуса Христа, любовь Христова должна сохраниться в сердцах малого Христова стада, и те ужасы жизни, ужасы неправды, попранной любви, которые видим ежедневно и ежечасно, должны нас побуждать к тому, чтобы возгревать в сердцах наших святую Христову любовь.
Как же это сделать, кому дается любовь? Только тем, кто исполняет заповеди Христовы, кто идет по узкому пути страдания, не сворачивая с этого пути, какие бы страдания и гонения не грозили. Идти, идти, идти без конца по этому крестному пути, идти без оглядки, идти к свету Христову. Если будем упорно и непрестанно идти к свету, то придем.
Как можно любить людей, которые истязают нас: воров, бандитов, насильников, которые творят нам великое зло? Это возможно, возможно не в полной мере, но хотя бы в небольшой мере. Подумайте, что такое жалость? Это одна из форм любви святой. Разве не должны мы жалеть всем сердцем людей, отвергших Христа, идущих по пути погибельному, идущих к отцу своему — дьяволу? Разве вы их не должны жалеть? Любить их чистой, полной любовью невозможно, но жалеть их возможно, сокрушаясь сердцем, что эти несчастные люди на пути погибели. Если не будем проклинать этих людей, исполним закон Христов даже по отношению к ним.
Знаете ли вы, что на великого святого Серафима Саровского напали разбойники, несколько мужиков из соседней с монастырем деревни, избили его смертным боем, проломили череп, сломали ребра так, что он потерял сознание и несколько месяцев пролежал в монастырской больнице, пока не пришла Пресвятая Богородица исцелить его. Как отнесся он к разбойникам? Они были пойманы, переданы суду, а преподобный Серафим упросил со слезами, чтобы не наказывали их, а отпустили. Он плакал, он жалел их, а, следовательно, любил их.
Такую жалость проявляли весьма многие другие святые. Так святые относились к тем, кто творил им великое зло. Так Сам Бог терпит грешников, терпел даже такого страшного разбойника, как Варвар, который убил триста человек, потом покаялся, принес Богу такое покаяние, какого представить себе нельзя, и был прощен Богом, был возлюблен Богом, получил даже от Него дар чудотворения.
Сам Господь так долготерпелив по отношению к тяжким грешникам, как же смеем мы их ненавидеть и проклинать? Должны мы их жалеть, а жалость, как я уже сказал, — одна из форм любви.
Если можно даже убийц, злодеев жалеть, то что скажем о менее тяжких грешниках — о несчастных ворах, о всех погибающих во грехах? Их надо жалеть еще больше, чем преподобный Серафим жалел своих убийц. Пусть никто не говорит: «Как могу я любить этих людей, отравляющих жизнь нашу, позорящих народ русский?» Пусть каждый не проклинает, а жалеет их, и тогда любовь Христова вселится в наши сердца. Любовь Христова незаметно, изо дня в день проникает в сердце человека, который старается Богу угодить, всегда молится, постом смиряет плоть свою, старается помочь окружающим людям.
Любовь Христова изливается в сердце такого человека, наполняет его до краев и изливается через край, как изливалась она у преподобного Серафима на грешников, которые тысячами приходили к нему. О такой любви молите Бога все словами святого Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего, дух любви даруй ми, рабу Твоему! И даст вам Бог дух любви. Аминь.
Заключение молитвы святого Ефрема Сирина
Великая молитва Ефрема Сирина кончается чрезвычайно важным прошением: Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Осуждение братьев наших — это самая закоренелая всеобщая привычка наша. Осуждение ближних — то, чем мы всегда заняты, и оставляем важнейшее из всех дел наших — рассмотрение прегрешений наших.
Такого обычая нет ни у кого: с начала дня до самой ночи мы думаем обо всем, занимаемся всем, только не занимаемся важным делом — рассмотрением сердца своего. Этим никто не занимается, кроме малого-малого числа людей, посвятивших себя Богу, у них это самое важное, основное занятие: ищут нечистоты греха в сердце своем. Когда найдут, легко и скоро освобождаются от него, ибо когда найдут какую-либо нечистоту в сердце своем, станет противно и стараются изо всех сил избавиться от нее. Когда узрят прегрешения, покаются и очистятся от них.
Запомните слова апостола Павла к нам: А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов (Рим.14:10). Когда осуждаем других, не вспоминаем, не замечаем, что сами виновны в том же. А мы знаем, что есть суд Божий не только за совершенные прегрешения, за которые осуждаем ближних своих, но и за самое осуждение: Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Тебя самого ведет Господь к покаянию, а не к осуждению других. О других не заботься.
Помните, как привели к Господу женщину, взятую в прелюбодеянии, и спросили: Учитель, Моисей повелел таких грешников побивать камнями. А ты что скажешь? Господь Иисус Христос не сразу ответил. Он сидел во дворе храма и что-то писал пальцем на песке. И лишь когда спросили Его вторично, дал удивительный ответ, какой только мог дать: Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. С великим стыдом, низко опустив головы, стали расходиться один за другим книжники и фарисеи, которые считали себя праведниками. А Иисус писал на песке, и наконец поднял голову и спросил: Где твои обвинители? Никто не осудил тебя. И Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши (Ин.8:10-11).
Какой удивительный запрет осуждения, как ясно Господь сказал, что надо думать прежде всего и больше всего о своих грехах. Кто без греха, пусть первый бросит камень. Мы не без греха, значит, не смеем бросать камень осуждения в других, а мы бросаем камни постоянно, каждый день и каждую ночь бросаем камни осуждения: Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Все предстанем на суд Христов (Рим.14:4, 10). Нужно думать об этом суде над нами, о себе, а не заниматься чужими грехами. Видите, как свят и важен этот закон.
Что делать, если видим человека, явно согрешающего, заслуживающего осуждения? И тогда не должно осуждать, надо положить дверь заграждения на уста свои, не осудить согрешающего, а пожалеть его, помнить о том, что тяжек ответ его пред Богом, и молча вознести краткую молитву: Господи, прости его. И тогда бес осуждения убежит сейчас же, ибо бесы бегут от молитвы. Если же осудим, бес останется, и другой раз осудим, и без конца будем осуждать.
Откуда дух осуждения? От гордости, от того, что многие считают себя выше и лучше других. Часто бывает осуждение от зависти: завидуем тем, кто получил дары духовные, иногда даже людям просто благочестивым, а зависть ведет к осуждению. Осуждают от злобы, от ненависти. А любви очень мало, злобы же, ненависти очень много в сердцах наших. Эта злоба, эта ненависть побуждает осуждать ближних наших, закрывает наши глаза на собственные грехи и недостатки.
Осуждаем человека весьма часто и без всякой зависти. Это часто зависит от укоренившейся привычки осуждать. Осуждение, как и все прочее, становится нашей привычкой, если постоянно осуждаем.
Все, что часто делается, становится нашим навыком. Если у кого-нибудь зависть, ненависть владеет сердцем, укоренится привычка осуждать, будет всегда, неумолчно, неустанно осуждать.
Эту привычку надо искоренить, не давая ей возрастать в нас. Ловить надо себя на всяком осуждении, осудить себя за всякое осуждение. Осудив себя один-два раза, научимся воздерживаться и перестанем осуждать других, а сосредоточим духовный взгляд на собственном сердце.
Так исполним то, о чем просим в молитве Ефрема Сирина: Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь.
***
Молитвы
Молитва при тщеславных помыслах
Господи, не дай мне возмечтать о себе как бы о лучшем кого-либо из людей, но думать как о худшем всех и никого не осуждать, а себя судить строго. Аминь.
От гордости
Молитва святому преподобному Алексию, человеку Божию
О, великий Христов угодниче, святый человече Божий Алексие, душею на Небеси Престолу Господню предстояяй, на земли же данною ти свыше благодатию различная совершаяй чудеса! Призри милостивно на предстоящия святей иконе твоей люди, умиленно молящияся и просящия от тебе помощи и заступления. Простри молитвенно ко Господу Богу честнии руце твои, и испроси нам от Него оставление согрешений наших вольных и невольных, в недузех страждущим исцеление, напаствуемым заступление, скорбящим утешение, бедствующим скорую помощь, всем же чтущим тя мирную и христианскую живота кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. Ей, угодниче Божий, не посрами упования нашего, еже на тя по Бозе и Богородице возлагаем, но буди нам помощник и покровитель во спасение, да твоими молитвами получивше благодать и милость от Господа, прославим человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и покланяемаго Бога, и твое святое заступление, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Преподобному Арсению Великому
Ему молятся о даровании смирения
О, священная главо, земный ангеле, небесный человече, безмолвия рачителю, молчания любителю, преподобие и богоносне отче наш Арсение! Припадаем ти и молимся: помолися ко Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, да дарует нам, грешным и недостойным рабом Своим, вся ко спасению душевному благопотребныя дары Своя: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, любомудрие Христопоследовательное, и вся добродетели, во Святем Евангелии Им заповеданныя; да будем подражатели твоего богоугоднаго жития и вкупе с тобою сподобимся спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследити. Ей, угодниче Божий! Не презри нас, но помози нам, небесным предстательством твоим, благочестно житие временное скончати, кончину благую, мирную и непостыдную прияти и блаженства райскаго сподобитися, да прославим человеколюбие и щедроты в Троице славимаго и покланяемаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое святое заступление, во веки веков. Аминь.
Молитва в отчаянии сущих
Владыко, Господи небесе и земли, Царю веков! Благоволи отверзти мне дверь покаяния, ибо я в болезни сердца молю Тебя, Истиннаго Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа, Света миру. Призри многим Твоим благоутробием и приими моление мое; не отврати его, но прости мне, впадшему во многая прегрешения. Приклони ухо Твое к молению моему и прости мне все злое, кое соделал я, побежденный моим произволением. Ибо ищу покоя, и не обретаю, потому что совесть моя не прощает мя. Жду мира, и нет во мне мира по причине глубокого множества беззаконий моих. Услыши, Господи, сердце вопиющее к Тебе, не посмотри на моя злая дела, но призри на болезнь души моея и поспеши уврачевать мя, жестоко уязвленнаго. Дай мне время покаяния ради благодати человеколюбия Твоего, и избавь мя от безчестных дел, и не возмерь мне по правде Твоей, и не воздай достойное по делом моим, дабы мне не погибнуть совершенно. Услыши, Господи, мя, в отчаянии находящагося; ибо я, лишенный всякой готовности и всякой мысли ко исправлению себя, припадаю к щедротам Твоим: помилуй мя, поверженнаго на землю и осужденнаго за грехи моя. Воззови мя, Владыко, плененнаго и содержимаго моими злыми деянии и как бы цепями связанного. Ибо Ты един ведаешь разрешать узников, врачевать раны никому не известные, которыя знаешь только Ты, ведущий сокровенное, и потому во всех моих злых болезнех призываю только Тебя — Врача всех страждущих, Дверь рыдающих во вне, Путь заблудившихся, Свет омраченных, Искупителя заключенных, всегда сокращающаго десницу Свою и удерживающаго гнев Свой, уготованный на грешники, но ради великаго человеколюбия дающаго время покаянию. Возсияй мне свет лица Твоего, Владыко, тяжко падшему, скорый в милости и медлящий в наказании. И Твоим благоутробием простри мне руку и возстав мя из рова беззаконий моих. Ибо Ты Един Бог наш, не веселящийся о погибели грешников и не отвращающий лица Своего от молящагося к Тебе со слезами. Услыши, Господи, глас раба Твоего, вопиющаго к Тебе, и яви свет Твой на мне, лишенном света, и даруй мне благодать, дабы я, не имеющий никакой надежды, всегда надеялся на помощь и силу Твою. Обрати, Господи, плач мой в радость мне, расторгни вретище и препояши мя веселием. И благоволи, да упокоюсь от вечерних дел моих, и да улучу упокоение утреннее, как избранные Твои, Господи, от которых отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и да отверзется мне дверь Царствия Твоего, дабы вошедши, с наслаждающимися светом лица Твоего, Господи, получить мне жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.
Молитва об обращении заблудшихся
Господи Иисусе Христе, Боже наш! Приими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие и, простив нам вся прегрешения наша, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздаждь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их: неверных ко правоверию и благочестию, верных же во еже уклонитися от зла и творити благое. Нас же всех и Церковь Твою Святую всесильною Твоею крепостию от всякого зла милостивно избави. Отечество наше от лютых безбожников и власти их освободи. Верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, Многомилостиве Боже наш, и изведи из нетления жизнь их. Подаждь же мир и тишину, любовь и утверждение и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твоею Кровию искупил еси. Но и отступившим от Тебе и Тебя не ищущим явлен буди, во еже ни единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да вси в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят Пречестное Имя Твое, терпеливодушне, незлобиве Господи, во веки веков. Аминь.
Как молиться об оскорбляющих нас
Душа не может иметь мира, если не будет молиться за врагов. Душа, наученная молиться от благодати Божией, любит и жалеет всякую тварь, и особенно человека, за которого страдал Господь на кресте и болел душою за всех нас.
Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви, и тогда будет жалко даже и бесов: потеряли смирение и любовь к Богу.
Молю вас, испытайте. Кто вас оскорбляет или безчестит, или отнимает что ваше, или гонит Церковь, то молитесь Господу, говоря:
«Господи, все мы — создание Твое; пожалей рабов Твоих, и обрати их на покаяние», — и тогда ощутимо будешь носить в душе своей благодать. Сначала принудь сердце свое любить врагов, и Господь, видя доброе желание твое, поможет тебе во всем, и сам опыт покажет тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога.
Если будешь молиться за врагов, то придет к тебе мир; а когда будешь любить врагов, то знай, что благодать Божия живет в тебе большая, но не говорю еще — совершенная, но достаточная ко спасению. А если ты поносишь врагов своих, то это значит, что злой дух живет в тебе и приносит в сердце твое злые помыслы, ибо, как сказал Господь, от сердца исходят помышления злые или добрые.
Добрый человек думает: всякий, заблудившийся от истины, погибает, и потому его жалко. А кто не научен Духом Святым любви, тот, конечно, не будет молиться за врагов. Наученный любви от Духа Святого — всю жизнь скорбит о людях, которые не спасаются, и много слез проливает о народе, и благодать Божия дает ему силы любить врагов.
Если ты не имеешь любви, то хотя бы не поноси и не кляни их; и это уже лучше будет; а если кто клянет и ругает, в том ясно живет злой дух, и если не покается, то по смерти пойдет туда, где пребывают злые духи. Да избавит Господь всякую душу от такой беды.
Поймите. Это так просто. Жалко тех людей, которые не знают Бога или идут против Бога; сердце болит за них, и слезы льются из очей. Нам ясно видно и рай, и муку: мы познали это Духом Святым. Вот и Господь сказал: Царствие Божие внутрь вас есть (Лк.17:21). Так отсюда еще начинается вечная жизнь; и мука вечная отсюда начинается.
Примечания:
Приблизительное время чтения: 4 мин.
Вопрос читателя:
Добрый день. Добрый день. Сегодня поняла, что мне никогда не победить свою гордыню. Может, мне тогда и в церкви делать нечего? Я никогда не смогу сказать обидчику: «Прости, я сама виновата». Хотя умом понимаю, что, скорее всего, виновата, заслужила, ведь напрасно ничего не происходит. А вот принять душой и сердцем не могу или скорее всего, не хочу. Могу только промолчать, да и то не всегда. Не смиряюсь. А ещё я перестала вычитывать молитвы по молитвослову. Молюсь краткими молитвами в течение всего дня, думаю о Господе. Это я считаю живым общением с Богом. Священник в храме сказал, что это тоже гордыня, хотя я считала это ленью. Батюшка сказал, что и лень — гордыня. Если я не исправлюсь в этом вопросе — а я не исправлюсь! — то какая я христианка? Но от Бога я никогда не откажусь и буду молиться как умею и как душа лежит. Я в настоящий момент расстроена, ум ещё не остыл. Успокоюсь, может, по-другому буду мыслить и что-то предпринимать. А сейчас для меня мир рухнул.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Здравствуйте!
Если в целом говорить, то гордыня — это корень всех бед, основа всех грехов. Именно гордыня двигала Люцифером, именно из-за нее происходят самые ошеломительные падения. Такова природа человека, что именно гордыне он очень подвержен. И невозможно с ней справиться раз и навсегда почти никому, стратегия тут другая — действовать и жить так, чтобы в каждый конкретный момент действовать не по гордыне, а по любви. И так из множества мелких выборов и сложится хороший, правильный путь. В какие-то моменты Вы ошибетесь, но пусть будет так, что в большинстве моментов Вы поступите все-таки так, как будет по-Божески и по-человечески.
Церковь — это Тело Христово. Куда вы собрались уходить? Вы христианка, Вы верите в Бога, Вы знаете, что Он есть и Вы хотите быть с Ним. Он создал Церковь как сообщество верующих людей, Вы в этом сообществе по праву своего Крещения. Зачем куда-то уходить? Никуда не надо, потому что именно в Церкви Вы и помолиться можете не только лично (это и самой можно), а вместе с другими верующими, исповедаться можете, причащаться можете, черпая в Таинствах церковных силу, благодать Божию на то, чтобы жить. Церковь именно для этого и создавалась — для совместности и для поддержки. Так уж мы созданы, что живем не поодиночке, но вместе. И это единство, очень сильно нарушенное во многих областях жизни, в церковном пространстве с разной степенью успешности и пытаемся восстановить. Это дар Божий, дорогая, и не стоит его отвергать, потому что он для того, чтобы им пользоваться.
Теперь насчет конкретики.
Ситуации конфликтов надо решать очень конкретно, понимая, что к чему. Я думаю, что в ситуации, в которой Вас именно обидели, стоит как раз четко понимать, что обидели не Вы, а Вас. Конечно, будет очень правильно об обидчике помолиться, чтобы Господь его умудрил и так далее, и чтобы Вас Господь утешил, но в общем никто и никогда не говорил о том, чтобы переворачивать ситуацию и искать свою вину там, где ее нет. Вы можете — и дай Бог Вам! — реагировать очень спокойно, но говорить, что Вы виноваты в том, в чем не виноваты — это будет ведь лгать. Да, по большому счету, у любого человека если мысли и поступки (если только он не святой), которые ему можно поставить на вид, и каждый человек эти вещи за собой знает и понимает. Но, например, если Вы неправы в отношении собственного ребенка, считать это причиной того, что Вам, скажем, незаслуженно не выписали премию — это немного неверно видеть логические связи. Одно дело, если, например, Вы несправедливы к своим подчиненным и потом так же несправедливы к Вам — это может дать Вам повод пересмотреть свое отношение к подчиненным. Но это не отменяет того, что в отношении Вас начальство неправо. Понимаете, да? Так что не мучайтесь и в каждой ситуации отделяйте правильность реакции (промолчать, сказать спокойно, отстоять свою позицию — но лучше тоже спокойно) от анализа Вашей жизни в целом.
Что касается молитв… Вот тут надо решать с духовником лично, конечно. Вы к молитвам вообще присмотритесь. Это не какой-то груз, который надо «вычитать», это живые прошения, которые в себе содержат все то, что человеку понадобится днем или ночью. Их писали святые люди (обратите внимание на авторство), и составлены они максимально в общем, так что Вы под каждой просьбой общего характера можете подразумевать что-то очень конкретное свое. Конечно, если по каким-то обстоятельствам не успеваете молиться этими молитвами — это бывает, читайте тогда часть. Но все-таки я бы советовал переосмыслить эти тексты, взглянуть на них по-новому.
А помнить о Боге и молиться в течение всего дня — это очень правильно.
Так что не грустите, успокойтесь, попросите Господа о помощи и сделайте небольшую переоценку того, что Вас волнует.
Храни Господь, дорогая!
Задать вопрос священнику
Вы хотите задать вопрос священнику? Для начала рекомендуем проверить, нет ли уже опубликованного ответа на аналогичный вопрос. Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, задайте его через форму ниже. Обратите внимание: не все ответы публикуются на сайте. Если вы точно хотите получить ответ на свой вопрос, укажите е-mail — ответ придет вам на почту.
P.S. Священник, отвечающий вам в письме, может дать только общие рекомендации. Если вы хотите получить более подробный ответ по вашей личной ситуации, необходима личная встреча со священником.
Время ожидания ответа может быть различным в зависимости от сложности вопроса и загрузки отвечающих священников. Также в праздничные дни, дни особенной занятости священнослужителей (начало Великого поста, Страстная неделя, двунадесятые праздники и т.д.) ожидание ответа может занять более продолжительное время, чем обычно.
Загрузка…
Гордыня — грех Люцифера и Адама, поэтому он самый страшный
Православие под гордыней понимает гордость, заносчивость, эгоизм, высокомерие и зазнайство. Гордыня — это смертный грех. Он идёт в списке смертных грехов восьмым, но по времени своего появления он первый.
В Писании сказано, что после того, как Господь создал ангелов, самый любимый из них Люцифер (Денница), отказался стать на колени перед Ним. Это было первое проявление гордыни на свете.
Люцифер получил от Бога наибольшее могущество среди всех остальных ангело. Это стало причиной его гордости. Считая себя равным Богу, он решил пойти против него и забрать трон Всемогущего Господа себе.
Для этого он собрал среди ангелов войско, и на Небесах началась битва. Колоссальное сражение окончилось поражение Денницы. Армия ангелов, оставшихся верных Богу под предводительством архангела Михаила победила.
Люцифер и все падшие ангелы были сброшены в преисподнюю. Отныне они обитают там, лишённые сияния и Божьей благодати.
Второй пример опасности гордыни — грех Адама, который возгордившись попробовал запретный плод.
Когда человек возгордился, ему не мешает вспоминать о своих прародителей Адаме и Еве. Проживая в Эдеме и будучи обеспечены всем необходимым, они, искушаемые Змием, нарушили Божий запрет.
Возгордившись, Адам, уступая уговорам Евы, попробовал запретный плод. Результатом этого стало изгнание их из Рая.
Два этих примера свидетельствуют о том, что гордыня — это, прежде всего восстание против Бога. Горделивое существо доходит до того, что считает себя равным Творцу.
При этом оно не только утверждает о таком равенстве, но и стремиться занять его место. На небе так поступал Люцифер, на земле же ему подражают различные властители и революционеры.
Жизнь Христа — пример борьбы с гордыней.
Господь наш Иисус Христос, в своей земной жизни многократно показывал нам пример смирения, начиная от омовения ног на Тайной вечере и заканчивая мученической кончиной на кресте.
При этом он был наделён качествами, которыми никогда не будет наделён ни один из смертных. Его жизнь — пример смирения и борьбы с гордыней для нас.
Гордыня — стремление возвысить себя
Опасность гордыни состоит в том, что она рождается из греха и порождает другие грехи. Так богословы выводят этот грех из такого греха, как тщеславия. Ища ложного почёта и похвалы, человек получает завышенную самооценку.
Человек, болеющей грехом гордыни, утверждается в том мнении, что он выше всех и достойнее.
При этом никакого объективного подтверждения этом может и не быть.
Ложное чувство собственной значимости рождает осуждение. Далее рождается желание судить других. В результате люди становятся несправедливыми судьями. В Евангелии же сказано:
«Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».
(Матф., 7, 1-2)
Об этом многие забывают, хотя понимать эти слова необходимо постоянно.
Наибольшая же опасность для возгордившегося состоит в том, что он начинает отрицать помощь других людей и высших сил. Такой человек начинает хвастаться своими достижениями, присваивая их себе.
Хвастаясь своими достижения, человек сам того не подозревая, подвергается греху гордыни.
В результате он возвышает себя, а других принижает. При этом человек даже может не осознавать того, что он подвергается воздействию самого свирепого греха. Со временем он может привести к погибели — богоборчеству.
Смотрите также статью Сколько кругов ада
Что такое гордыня
Гордыня стала тем грехом, который поразил Люцифера, после чего он возжелал занять место Бога. Упиваясь своей силой и могуществом, он собрал войско и восстал против создателя. Однако был повержен архангелом Михаилом и сброшен в ад – место, заключенное во тьме и лишенное Божьей благодати.
Поэтому гордыня считается смертных грехом, а людям, подвластным ее влиянию, суждено отправиться в преисподнюю. Ослепленный непомерной любовью к себе и своим достижениям человек начинает переходить границы дозволенного, оскорблять и принижать достоинство других людей. Все достижения он считает исключительно своей заслугой, а помощь со стороны воспринимает как должное.
Признаки
Изменения в личности происходят постепенно и не сразу ассоциируются с греховным падением, так как принимаются за одну из особенностей характера. Чем дольше человек остается слеп, тем хуже становится ситуация. Чтобы спасти душу, нужно понять, в чем именно выражается порочное поведение:
- неумеренная гордость;
- отказ принимать мнение и недостатки другого человека;
- пренебрежение божьими заповедями;
- злоба и ненависть;
- эгоцентричность;
- ощущение своего превосходства над другими людьми;
- неумение контролировать свои эмоции и поступки;
- чрезмерная раздражительность;
- присутствие приказного тона в обычной беседе.
Виды
Гордыня не знает границ, она может проявиться в абсолютно разных ситуациях и поразить тех, кто, казалось, никогда не вознесет свое «я» выше других людей. В современном обществе существует несколько разновидностей гордыни:
- Возрастная. Часто проявляется обоюдное неуважение. Взрослые считают, что дети не могут давать дельных советов из-за неопытности, а молодежь критикует устаревшие взгляды на жизнь.
- Научная. Нередко проявляется в учебных заведениях, когда более умных преподносят (в том числе учителя), а менее способных гнобят.
- На основе внешности. Гордыня, захватывающая женские души. Именно представительницы прекрасной половины человечества смотрят друг на друга с высокомерием и осуждением.
- Национальная. Распространено мнение, что определенная нация стоит выше, чем другая. Ярким примером является ненависть немцев к евреям в период Второй мировой войны.
Причины
Выделяют следующие факторы, дающие человеку чувство возвышенности над другими:
- Талант. Наличие одной или нескольких ярких способностей, которые помогают преуспеть в жизни, нередко заставляет человека смотреть на других свысока.
- Аристократичность. Пренебрежительное отношение к окружающим часто развивается у детей очень влиятельных и обеспеченных родителей, так как им с детства доступны определенные блага. При этом отсутствует понимание, что это не их заслуга и не стоит воспринимать все как данность.
- Низкая самооценка. Нереализованность часто приводит к развитию комплексов. Чтобы скрыть неуверенность в своих силах, человек начинает хвастаться надуманными заслугами, тем самым поддаваясь гордыне.
Зарождение гордыни часто происходит в детские годы, когда родители прививают неправильные жизненные ценности.
Признаки греха гордыни
Гордыня мать всех грехов, потому, что гордец считает себя выше всех и вправе делать что пожелает. Естественно, то в этом случае грехопадение человека может случиться быстрее, чем в том случае, когда бы он был скромен.
Гордецы оскорбляют и принижают других людей.
Кроме того, он высокомерны, властолюбивы, злопамятны. Практически все пороки свойственны гордецу, а вот добродетели обычно он себе приписывает.
Для того чтобы вовремя остановиться в несправедливости и спасти себя, человеку необходимо знать, что существуют следующие признаки гордыни:
- желание превозносить себя и свои достижения;
- чрезмерное себялюбие, высокомерие, а также желание хвастаться своими достижениями;
- обидчивость, злопамятность, желание быть всегда первым;
- властолюбие, желание повелевать;
- наслаждение от унижения других людей, презрение к ним.
Гордецы не понимают, что Бог может навлечь на них те пороки, которые они видят в других людях. Человек не в состоянии полноценно и справедливо оценить людей, его окружающих.
Нельзя прочесть мысли не только своего врага, но и даже друга. Кроме того, покаяние обычно не видно, а видны лишь страсти.
Господь Наш Иисус Христос никого не обвинял и не обличал людей, даже впавших в страшный грех. В Евангелии от Иоанна сказано:
«…кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
(гл. 8, ст. 7)
Эти слова были обращены к книжникам и фарисеям, гордившимся своей ученостью. Спаситель всегда говорил о том, что пока жизненный путь человека не окончен, у него всегда есть возможность пойти по истинному пути и всё исправить.
Только Высший суд после смерти подводит черту под земной жизнью.
Об этом необходимо помнить, рассуждая о том, почему гордыня самый страшный грех.
Гордеца прельщает Диавол
Говоря о гордыне необходимо помнить, о таком понятии, как духовная прелесть. Прельщение – это деятельность Врага рода человеческого принявшего вид ангела или даже самого Христа. Человек, пленённый им, может совершать необычные вещи.
Так гордец, например, может считать, что он достиг многого в науке благодаря тому, что он «особенный», гений. Однако в основе такого заявления лежит желание славы. Здесь и речи не идёт о смирении.
Если же говорить о тех гордецах, которые находятся в церковной ограде, то многие еретики впали в грех гордыни. Отсюда объявление себя пророками и святыми или же утверждения о даре пророчества.
Об опасности духовного прельщения для православного писали такие видные подвижники, как старцы Иосиф Исихаст, Паисий Святогорец и Даниил Катунакский.
Смотри также статью Почему умирают дети
Гордость и гордыня — синонимы
В наше время появилось много направлений в психологии и психологических школ, которые утверждают, что гордость — это неотъемлемое качество человек. Говорится, что человеческая личность будет неполна, если он не будет гордиться собой.
Проводятся даже специальные тренинги, направленные на повышение уровня собственной самооценки.
Православная Церковь однозначно говорит о том, что гордость и гордыня — слова-синонимы. Очень часто в Библии, говоря о том, что тот или иной человек греховен, говориться, что он гордый.
При этом люди светские указывают на то, что слово «гордость» упоминается, например, по отношению к Отчеству и Родине.
Заявлять о гордости за что-то, не приложив к этому усилий нельзя.
Православному, в этой связи необходимо помнить о том, что верующему необходимо гордиться своим духовным подвигом или же тем, что дал ему Господь.
Естественно, что гордость не полностью равно гордыне, но она может легко перейти в неё. Также обстоит дело с самолюбием и тщеславием.
Со всеми духовными проблемами и потребностями необходимо идти в храм, а не обращаться к сомнительным услугам бизнес-тренеров и психологов.
Как бороться с гордыней
Гордыня ставит палки в колеса при любых попытках избавиться от нее, вырасти духовно, стать лучше самого себя. Вследствие этой борьбы она теряет над вами власть, поэтому и сопротивляется так отчаянно всем вашим усилиям. Гордец не видит в других прекрасного и частички Бога, он не умеет прощать, признавать свое поражение, просить прощения. Он даже не может позволить другому иметь свое мнение! Подумайте, как это звучит. Сколько самонадеянности и надменности в том, чтобы считать только свои собственные мысли самыми правильными, а свою личность величайшей. Проявления любви и великодушия не сводятся к победам и поражениям, здесь нет никакой гонки с другими. Вся жизнь сводится к безоговорочной любви к каждому, а не соревнованию «раздутых эго».
Гордыня мать всех грехов, так как гордец собой заменяет Бога
Гордыня — это грех Люцифера и уже поэтому может назваться «матерью» всех грехов. Как Диавол поставил своё «Я» выше Бога, так и гордец говорит о том, что важен он, а не окружающие.
Естественно, что попав в другой коллектив, он может встретить такого же гордеца. В результате может начаться вражда, чреватая самыми серьёзными последствиями
Ни один другой грех не может породить вокруг себя столько грехов, как гордыня.
Грешник, в таком случае, претендует на роль Бога.
Таким образом, он отрекается от Него и ему становиться, с его точки зрения, всё позволено. Примеры из истории подтверждают этот вывод, ведь сколько страданий принесли людям революционеры и богоборцы всех мастей!
Гордыня резко порицается в Библии
Гордыня в Библии упоминается неоднократно. Все упоминания о ней резко отрицательные и носят негативную характеристику. Так в Ветхом Завете, в Книге Премудрости Иисуса сына Сирахова, сказано:
«Начало греха — гордость».
(Сир. 10:15 рс)
Именно из этого утверждения православные выводят тот постулат, что гордость — мать всех грехов.
В Библии при этом также говориться, что Бог ненавидит гордыню:
«…гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста Я ненавижу».
(Притчи 8:13)
Кроме того, Он наказывает гордецов, противится им, а смиренным даёт благодать:
«…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».
(Иакова 4:6)
В Писании имеется множество примеров, когда Господь наказывал гордецов. Самый яркий из них — разрушение Вавилонской башни. Кстати, такое наказание предусмотрено не только для неверующих, но и для верующих.
Самым же страшным последствием гордыни может стать то, что человек отвергнет от себя Божью истину. Дело в том, что гордость не даёт возможности человеку признать себя грешным.
Самое страшное последствие гордыни — отвержение Божьей истины.
Это, в свою очередь, не позволит человеку раскается в своих греха. Нераскаявшийся человек не обратится к Творцу за прощением. Таким образом, ослепляя разум, гордыня приводит человека к вечной погибели.
Наука о гордыне
С точки зрения психологии, гордыня — это непомерная гордость, заносчивость, высокомерие, эгоизм и зазнайство. В самом высшем своем проявлении гордыня считается духовным отклонением, которое сопровождается следующими симптомами:
— обидчивость, непереносимость критики, нежелание исправлять свои недостатки;
— постоянные обвинения других в своих жизненных проблемах;
— бесконтрольная раздражительность и неуважение к другим людям;
— человека регулярно посещают мысли о собственном величии и уникальности, он превозносит себя над другими и требует, чтобы они им восхищались;
— неумение просить прощения;
— желание постоянно спорить, доказывать свою правоту.
Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал одно из перечисленных чувств. Это объясняется тем, что гордыня есть у всех людей, однако у многих она проявляется в разумных пределах.
Например, гордиться победой в спортивном чемпионате или получением высшего балла на олимпиаде, по мнению психологов, нормально (в этом-то и разница между гордыней и гордостью). Порой гордость и чувство собственного достоинства являются важнейшими составляющими счастливой и успешной жизни.
Испанский биолог и автор книги «Ген и семь смертных грехов» Джон Медина считает, что в основе всех человеческих пороков лежат химические реакции, происходящие у каждого из нас в организме.
Доктор Медина уверен, что проявление гордыни в той или иной степени «зависит от нашей способности к обучению и принятию всего нового». За появление этого чувства отвечает ген CaMKII. Именно он возбуждает наши амбиции, высокомерие и надменность.
Фрагмент “Гордыня” из произведения Иеронима Босха “Семь смертных грехов и четыре последние вещи”
Смирение — путь спасения от гордыни
Для того чтобы победить такой грех, как гордыня, необходимо стяжать противоположную ему добродетель. Такой добродетелью является смирение.
Она заключается в том, чтобы смирять себя перед ближними. Если вы одержимы гордыней, вам нужно своего брата почитать разумнее себя и превосходнее во всём. Авва Дорофей определил это так:
Авва Дорофей
святой
«… почитать себя ниже всех».
Подобным образом можно увидеть в других много хороших, добрых качеств, которые скрыты в других. Смиряясь, принижая себя, можно также увидеть в себе те недостатки, которые не даёт нам разглядеть наше самолюбие.
Оно же преувеличивает наши достоинства, что может не соответствовать действительности.
Смирению должно способствовать самоукорение.
То есть необходимо во всех бедах обвинять не окружающих, а самого себя. Человек должен всё время помнить о своих грехах и сопоставлять их со своими достижениями. Это позволит вовремя отрезветь и не впасть в гордыню.
В связи с этим стоит привести в пример поступок Господа Нашего Иисуса Христа, когда он умыл ноги своим ученикам на Тайной вечери. В иудейской традиции обмывать ноги перед трапезой должны были слуги.
Таким образом, омыв ноги апостолу Петру, Христос дал понять, что он пришёл в мир служить людям, а не для того, чтобы они служили ему. Это яркий пример смирения и следовать ему должен каждый православный христианин.
При этом необходимо давать отпор всем модным веяниям, которые есть происки Диавола. Так в последнее время широко распространились разные курсы и тренинги, на которых утверждается, что гордость нужно воспитывать.
Естественно, что человек должен жить в согласии с собой. Однако же воспитывать в себе превосходство над другими — это явно грех гордыни.
Описание
Гордыня – это явление достаточно многоликое и многообразное. Уж если она одна из некоторых ангелов сделала бесов, то тем более в разных видах особенно присуща падшему роду человеческому. Конечно, определение того, что она собой представляет, и как с ней бороться – это задача христианской аскетики.
Впрочем, данный исследуемый грех далеко выходит за рамки последней. Так, к примеру, есть национальная гордыня и, как уже было сказано, другие ее виды. Однако во всех этих своих последних она также вполне подчиняется законам православной аскетики.
Итак, по определению святых отцов, гордыня – это видение своих добродетелей (реальных или мнимые), услаждение ими, возношение ими, а также осуждение других, якобы, эти добродетели не имеющих. Типичный евангельский пример сего – фарисей, который в храме:
«став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк.18: 11-12).
Толкователи Священного Писания говорят, что добродетели этого фарисея были достаточно высокими, даже выходящими за рамки требований Моисеева закона. Который повелевал поститься лишь в определенные посты, а тот ревнитель постился еще да раза в неделю. Закон требовал платить десятину лишь с некоторых продуктов, а фарисей давал ее со всего, что приобретал.
Полезные материалы
Но все эти добрые дела съела его гордыня – видение их, услаждение ими и возношение ими, а также осуждение мытаря. Который, может быть, и не имел таких «духовных богатств», но зато имел и самое низкое мнение о своих добродетелях: всего лишь «стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лк.18: 13).
И что же, по слову Господа:
«Пошел оправданным в дом свой более, нежели тот (фарисей): ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк.18:14).
Как видим, мытарь, при видимом отсутствии добрых дел, имел, однако, одну самую важную, противоположную гордыни и искореняющую ее, добродетель смирения, которая перекрыла все посты и десятины фарисея! Ибо, как сказал преподобный Иоанн Лествичник:
«Если одна лишь гордыня сделала из ангелов бесов, то точно также одно лишь смирение может сделать из бесов ангелов».
В борьбе с гордыней необходимо уповать на Бога
Православный должен всегда помнить о том, что без Божьей помощи он не может справиться с грехами. Так все совет по борьбе с гордыней будут пустыми, если не обратиться за помощью в храм.
Только здесь покаявшись и помолившись, можно обрести Божье заступничество. Никакие самоупражнения и самовнушения не помогут получить Божью благодать и оружие против Диавола.
Видео: Как избавиться от гордыни? (протоирей Владимир Головин).
Необходимо отметить, что прилежные прихожане обычно не подвержены данному греху. Дело в том, что они постоянно общаются со священником, который может помочь им в случае затруднения.
Кроме того, общаясь с набожными людьми, можно научиться у них скромности. Скромность и смирение же – главные орудия борьбы против греха гордыни.
Методы борьбы с опасной страстью
Гордыня – смертный грех, от которого необходимо избавиться. Если человек осознает, что оказался во власти порока и пожелает победить его, то придется пройти долгий путь и смиренно принимать испытания, ниспосланные Творцом.
Осознайте проблему
Это первый и самый важный шаг на пути к исцелению. Его трудно сделать, но без осознания проблемы невозможно найти решение. Придется научиться анализировать свои поступки, мысли и прорабатывать самооценку.
Рассмотрите горизонты
В мире существует много людей, которые занимают высшую ступеньку в обществе. Если вы смотрите на других сверху вниз, то и другие могут относиться также пренебрежительно к вашим достижениям.
Общайтесь с более успешными людьми
Полезным опытом будет общение с людьми, которые достигли значительных высот не только в карьере, но и в личной жизни. Нужно наблюдать, как они выстраивают общение с деловыми партнерами, коллегами, друзьями и родственниками. Если оценка достижений других оставляет неприятный осадок в душе, то стоит задаться вопросом, почему этот человек успешен, а вы еще не перешагнули на новую ступень развития.
Постоянно меняйте хобби
Постоянное стремление к саморазвитию и познанию нового откроет глаза на то, что есть еще много чему учиться и к чему стремиться. Достигнув вершины в одном, ищите новое хобби и постарайтесь стать профессионалом в нем.
Работайте с собственными недостатками
Горделивый человек не видит собственных недостатков и не умеет с ними работать. Поэтому пригодится чистый лист бумаги, на котором следует выписать все свои недостатки. Если их трудно определить самостоятельно, то стоит вспомнить слова окружающих людей. Составленный список должен находиться перед глазами, чтобы появилось осознание количества недостатков.
Достичь гармонии с собой и взаимопонимания с окружающими поможет кропотливая работа по устранению каждого из недостатков. При необходимости можно обратиться за помощью к специалисту или духовному наставнику.
Совет автора
Критикуйте сами себя
Самокритичность – очень важное и полезное качество, которое поможет останавливать горделивые позывы вовремя. Замечания могут быть в голове, записаны на бумаге или диктофоне, а также проговорены вслух. Главное, не бояться и не давать себе поблажек.
Попросите критику у близкого человека
Грех гордыни затуманивает трезвость мышления и не позволяет критически оценить свои поступки. Обратитесь к людям, которым действительно доверяете, с просьбой назвать три главных недостатка вашей личности. Услышанное необходимо обдумать, а когда придет осознание правоты собеседника, то можно приниматься за работу.
Человек – очень эмоциональное создание, но он может достигнуть всего, чего захочет, если приложит должное усилие и будет уповать на милость Творца. Однако, достигнув вершины, многие предаются гордыне, забывая, что она разрушит все достижения и не позволит открыть для себя новые горизонты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии
- тетка
:24.07.2020 в 13:41
т.е если вокруг одно никчемное и неблагодарное быдло,пользующееся плодами твоего труда и творчества и считающее себя значимым с зашкаливающим чсв и они действительно пользуют тебя, ты не имешь права даже думать что ты как минимум на голову выше их,и не должен их ставить на место?????? это покаковски ? и кто об этом думал? это я буду придумывать и созидать а это отродье будет брать и считать что мы равны? вы чё охуели?
Ответить
Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение
О том, как искажает нашу жизнь гордыня и как ей противостоять, мы поговорили с протоиереем Артемием Владимировым.
Протоиерей Артемий Владимиров – старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы. Член Союза писателей России, проповедник, педагог.
Метастазы гордости
— Многие считают, что гордый — это тот, кому есть чем гордиться: богатый, талантливый, успешный, красивый. А вот «середнячкам» гордость вроде и не присуща — чем гордиться-то?
— Гордость , по пословице, «прежде нас родилась». Суть ее — в произвольном, противном воле Божией обособлении от своего Создателя. Первое падение случилось с херувимом, ставшим противником Бога, — Сатаной. Им обольщенный не устоял и Адам, на мгновение посчитав, что и сам может быть «богом». С тех пор эта духовная инфекция живет в людях независимо от того, талантливые ли они, или «серенькие лошадки».
От гордости, словно из злокачественной клетки, образуется «раковая опухоль» себялюбия.
Гордость дает три метастазы в трех силах человеческой души — в уме, сердце и воле. Это самомнение, сластолюбие, самоволие. Проявляются эти страсти по-разному, в зависимости от характера, обстоятельств и склада души человека.
Если в успешных и красивых гордость и самолюбие проявляются в том, что они считают себя умнее, достойнее других, в презрении к окружающим, то в «середняках» гордость чаще выражается в мнительности, обидчивости, печали, а также в плохом настроении, зависти, злобности.
Я бы особенно отметил в качестве «маркера» гордости такое состояние, как безмолитвенность. Если мы не чувствуем нужды во внутреннем обращении ко Христу Спасителю, то мы de facto горды, самоуверенны и надеемся лишь на себя и свои силы, — собственно, как и Адам при своем падении. Такой человек, к сожалению, строит свою жизнь на песке.
— Чем отличается самоуважение, достоинство, честь от гордости?
— В чем подлинное достоинство человека? В том, что мы носим в себе образ Божий; в том, что нам дарована Христова благодать; в том, что мы призваны к нетленной и святой жизни во славу Спасителя.
Соответственно, мы не должны потакать людям, склоняющим нас ко греху. Лучший пример — Евангельский. Господь велит ученикам мужественно пресекать общение с источником греха: «Если правая рука соблазняет тебя, — гласит слово Божие, — отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в Царство Небесное, чем быть ввержену в геенну», поддавшись греху.
Истинное самоуважение проявляется в стремлении во что бы то ни стало хранить верность Господу. Не стать предателями, не продать Господа за сребреники, как однажды случилось с Иудой и как продолжает случаться с нами самими, когда между верностью Христу и собственным хотением мы выбираем последнее.
Комплекс неполноценности появился из-за разрыва человека с Творцом
— А связаны ли гордыня и то, что психологи называют комплексом неполноценности?
— «Комплекс неполноценности» — термин, взятый из психологии. Эта наука сложилась в гуманистическую эпоху и исходит из безрелигиозной концепции человека. Но приведенное выше словосочетание прекрасно иллюстрирует драму разумного Божьего создания, потерявшего духовную связь с Творцом. Отчуждившись от благодати Божией, человек обречен на «неполноценность», ущербность, страдание.
Можно сказать, что в данном случае сердце мучает именно неудовлетворенная гордыня или нереализованное самолюбие, которые ищут «законного» основания в искаженном самосознании человека, но никогда не находят его. Отсюда — вялость души, печаль, обиды, злость, враждебность к другим и даже ненависть к себе… Всё по причине того, что не получается быть «успешным», как другие.
Противоположность гордости — смирение. Как же его обрести?
— Говорят, что добродетель, противоположная гордости, — это смирение. А как можно проявлять смирение на практике? Нужно ли, например, в споре всегда соглашаться с оппонентами, если факты говорят, что правда на твоей стороне?
— Думаю, если конфликт касается не лично нас, а общей пользы, — безусловно, можно отстаивать правое мнение, сохраняя, однако, сердечное спокойствие. Засвидетельствовав противоположной стороне истинное положение дел, мы выполним свой нравственный долг, а оппонент сам будет отвечать за собственное решение.
Если же речь касается лично нас, то здесь, по евангельскому закону, полезнее смириться, спокойно принять то, что нас не слышат, наше мнение не принимают, потому что не считают важным.
Если получится это делать от сердца, с искреннностью и постоянством, то Господь, конечно, не оставит нас Своей благодатью и вместо человеческого признания утешит благодатной милостью. «На кого посмотрю, — только на кроткого и смиренного», обещает нам Христос.
Потому и борьбу с гордостью должно вести, памятуя Евангельские слова : «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем».
Как научиться смирению у Господа? Очевидно, только находясь с Ним в живом союзе — посредством молитвы, и призывания Его святого имени!
Помните со школьных лет формулировку физического закона Блеза Паскаля? «В сообщающихся сосудах уровень жидкости одинаковый». Молясь внимательно, от сердца, мы становимся единым духом с Ним и приобщаемся спасающей нас Божьей благодати.
Коллажи Оксаны Романовой
Исцеление скорбями, увещеваниями и обличением: о преодолении страсти гордости
Иеродиакон Кирилл (Попов)
15.07.2017
14735
Для того чтобы понять, что представляет собой преодоление страсти гордости, необходимо уяснить, какое именно препятствие нужно преодолеть в первую очередь: им будет духовная слепота страсти. Вести с ней борьбу можно по-разному. В этом, прежде всего, помогает Бог — испытаниями, скорбями и болезнями, а могут помочь и люди — как увещевая, так и обличая.


Человек, пребывающий в страсти, в том числе и страсти гордости, как отмечают святые отцы, «не видит своего состояния».

Прежде всего, важно, что человек, пребывающий в страсти, в том числе и страсти гордости, как отмечают святые отцы, «не видит своего состояния»[1], не чувствует опасности, которой он в этом случае подвергается, а потому и не спешит что-либо менять. Более того, не зная и не чувствуя своего бедственного положения, человек обманывается, искренне полагая, что у него все хорошо и нет необходимости заботиться о здоровье души своей. Будучи же бесчувственным и не осознавая зла, причиняемого его душе грехами, грешник бывает горд[2].
О таком состоянии пишет преподобный Симеон Новый Богослов: «Будучи же горд, он и мысли не допускает, чтобы был болен, и ненавистью отплачивает тому, кто стал бы ему говорить о его болезни или предлагать врачевство, тогда как настоящий христианин, чувствующий раны и болезни души своей, ищет врача и охотно подчиняется его врачеванию… Не чувствуя же болезни, не тяготится ею и не ищет врачевства… пока он таков, неисцелим и, как неисцелимый — погибший»[3].
Для того чтобы начать исправление, человеку, прежде всего, нужно увидеть в себе «болезни души», каковыми и являются, по слову преподобного Симеона Нового Богослова, «похоти богатства, славы и удовольствия, по причине коих люди бывают гневливы, досадительны, неподвижны на добро, празднолюбивы, лихоимны, хищны, неправедны, тщеславны, горды, завистливы, человеконенавистны, мстительны»[4]. Начало аскетического подвига начинается с осознания бездны падения. К этой цели человека направляет божественная благодать, указывая ему путь спасения[5]. Только осознав, что душа одолевается недобрыми стремлениями, можно осознать и потребность в духовном враче, а значит, направить все силы на борьбу со страстью, пока не увидит она [душа] и не восчувствует [болезни свои, то есть грехи], не может уврачевать ее и Сам всемогущий Врач[6].

Пока человек не убоится и не возненавидит свою страсть как телесную болезнь, не сможет исцелиться.

Итак, важно увидеть грех. Но это только начало к восстановлению духовного зрения, только начало настоящей духовной борьбы. По мысли святителя, «увидеть и признать свою страсть», как тому учат моралисты, недостаточно. Он отмечает: «Пока человек не убоится и не возненавидит свою страсть как телесную болезнь, не сможет исцелиться. Пусть каждый представит свою страсть подобно телесной болезни. Это важно для исцеления. Например, гордость как паралич. Тогда, может быть, человек воскликнет, как некогда пророк Исаия: От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем
(Ис. 1:6). Или как апостол: Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»[10].

Необходимо учить и научить человека самопознанию, чтоб он знал себя и таким образом смиренномудрствовал.

Вместе с тем видение своих грехов раскрывается человеку постепенно, по мере преуспеяния в духовных подвигах и углубления покаяния. Каждому вступившему на сложный многоболезненный путь борьбы не стоит тешить себя мнимыми мечтаниями о быстрой победе, это «дело не единого дня или месяца, но многого времени, произволения, подвига, труда и помощи Божией к искоренению сего смертоносного корня гордости»[11]. Своими силами победить эти страсти невозможно. Кто хочет сам победить гордость, тот непременно падет или в ту страсть, с которой борется, или в побочную, как предупреждает святитель Феофан Затворник[12].

«Блудных могут исправлять люди, лукавых — ангелы, а гордых исцеляет Сам Бог…»

Только соработничество(synergia) Бога и человека способно преодолеть страстное состояние. Господь не замедлит явить Свою помощь — избавит, и излечит, и помилует. От человека же требуется сделать шаг к Нему: «Посмотри и ты на Него, как в зеркало, чтобы увидеть свои раны, прикоснись к Нему, чтобы исцелил тебя, поклонись Ему — Богу, чтобы открыл тебе Свои вечные тайны»[13]. То есть, со стороны человека необходимо доброе намерение, постоянное призвание помощи Божией, в ответ на которые обязательно последует ниспослание Божественных даров по Его милосердию.
Врачевство заключается и в том, что человек начинает видеть свои духовные немощи. Он научается самопознанию, без которого зараженный горделивым нечувствием к болезням своей души (грехам) ни один человек не сможет обратиться ко спасению. Истинное самопознание ведет человека к смирению. Преподобный Симеон Новый Богослов советует: «Необходимо учить и научить человека самопознанию, чтоб он знал себя и таким образом смиренномудрствовал. Смиренномудрие есть главным образом разумность. Как гордый неразумен и безсмыслен, так, напротив, смиренный разумен и смыслен. Поелику, таким образом, безумие и слепота гордыни так близки к людям и так сильны в них, то Всеблагий Бог определил, чтоб вместе с радостным находили на нас и прискорбности, чтоб чрез то научились мы смиренствовать, а не гордиться. Итак, всякому человеку необходимо знать себя самого, что он — ничто»[14].

Итак, через скорби забывший о Боге или, более того, противящийся Богу человек призывается вернуться к своему Творцу и Создателю.

Гордость как страсть, направленная против Бога, может достигать той степени, при которой для преодоления побеждающего человека превозношения и противления воле Божией уже недостаточными оказываются любые человеческие усилия. Когда, по словам Священного Писания, даже испытания не служат врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем
(Сир. 3:27-28).
При этом святой Иоанн Кассиан Римлянин подчеркивает, что «великое зло есть гордость, когда для противостояния ей мало ангелов и других противных ей сил, но для сего воздвигается Сам Бог. Заметить надо, что апостол не сказал о тех, которые опутаны прочими страстями, что они имеют противящимся им Бога, т. е. не сказал: Бог чревоугодникам, блудникам, гневливым или сребролюбцам противится, но одним гордым. Ибо те страсти или обращаются только на каждого из погрешающих ими, или, по-видимому, пускаются на соучастников их, т. е. других людей; а эта собственно направляется против Бога и потому Его особенно и заслуживает иметь противником себе[15]. О том же в целом говорят и другие святые отцы: «Блудных могут исправлять люди, лукавых —
ангелы, а гордых исцеляет Сам Бог…»[16].
Преподобный Амвросий Оптинский, также говоря о Божием врачевании гордящихся, указывает и на причину такого о них попечения: «Гордых Сам Бог исцеляет. Это значит, что внутренние скорби (которыми врачует гордость) посылаются от Бога, а от людей гордый не понесет»[17].

Важно обратить внимание на ослепляющее действие страсти гордости и важно увещевать человека быть внимательным в отношении ее.

В то же время святые отцы указывают на особую премудрость, с которой подаются Богом скорби, призванные искоренить в человеке гордость и научить его смирению: «Спасительная Божественная благодать для пробуждения грешника от усыпления, направляя свою силу на разорение той опоры, на которой кто утверждается и почивает своею самостию, вот что делает. Кто связан плотоугодием, того ввергает в болезни и, ослабляя плоть, дает духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться. Кто прельщен своею красотою и силою, того лишает красоты и держит в постоянном изнеможении. Кто упокоевается на своей власти и силе, того подвергает рабству и унижению. Кто много полагается на богатство, у того отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется, как маловедущий. Кто опирается на прочность связей, у того они разрываются. Кто положился на вечность установившегося вокруг него порядка, у того он разоряется смертью лиц или потерею вещей нужных. Держимых в узах беспечности внешним счастием чем иным отрезвить, как не скорбями и несчастиями? И не для сего ли вся жизнь наша преисполнена бедствий, чтобы она споспешествовала намерению Божию держать нас в трезвенности?»[18].
Подвижники благочестия вместе с тем указывают на то, что является конечной целью посылаемых от Бога скорбей:«В искушениях мы лучше и яснее познаем, что не кто-либо другой, а именно Господь (и Его Пречистая Матерь) печали наши утоляет, болезни врачует, в бедности помогает и обогащает, от смерти избавляет; познаем также, что Он — единственный источник нашей жизни, нашего спасения, нашего счастья, поэтому мы должны радоваться всяким скорбям, всяким искушениям, а не унывать и не отчаиваться»[19].

Святитель Феофан указывает на необходимость пристального всматривания в себя и рассуждения о совершаемом.

Итак, через скорби забывший о Боге или, более того, противящийся Богу человек призывается вернуться к своему Творцу и Создателю, осознать свою незначительность, зависимость от Бога, а значит, отказаться от гордости и превозношения, научиться смирению. При этом святые отцы дают совет, с какими мыслями и чувствами должен верующий переживать посылаемые ему исключительно во благо трудности: «Только никогда не забывай, мой друг, что, сколько бы ни встретилось на пути твоем неприятностей и искушений, их надо всегда принимать за знак испытания, а не за знак отвержения. На этом претыкаются многие христиане, оттого и впадают в отчаяние, почитая себя отверженными»[20].
Так совершает Господь врачевание тех, кто прежде отошел от Него, совершает его в неизменной любви и сострадании к человеку. Покорившись воле Божией через скорбные обстоятельства, человек начинает трезво смотреть на свои недостатки и всеми силами желает исправить себя. Скорби, болезни, трудности оживляют в человек доброе намерение, заставляют сместить внимание со своей персоны на Бога, открывают изменчивую и непостоянную сущность человека, показывают его слабость. Происходит понимание того, что победа зависит лишь от Бога милующего и спасающего.
Научая человека должной борьбе со страстями, важно обратить внимание на ослепляющее действие страсти гордости и важно увещевать человека быть внимательным в отношении ее. О таком увещевании, вскрывающем в человеке имеющуюся у него страсть, обнаруживающем ее рассказывает в своей «Лествице» преподобный Иоанн Лествичник. Он описывает старца, который «духовно увещевал гордящегося брата» и, получив ответ последнего: «Прости меня, отче, я не горд», — завершил беседу указанием, что это только подтверждает поврежденность оправдывающегося брата страстью:«Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь: я не горд»[21].
Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем указывает обратившемуся к нему на его духовную слепоту — неготовность увидеть и признать коренящуюся в душе страсть гордости: «Пишете: “Говорила с духовным своим отцом и сказывала ему о себе разное. Он прямо мне сказал, что я горда и тщеславна. Я ему ответила, что я совсем не горда, но терпеть не могу приниженности и угодничества”»[23]. Описывая обманчивое представление о самой себе женщины, обратившейся к нему за советом, святитель подчеркивает, что ее резкий ответ во всей полноте показывает его внутреннее гордое содержание.
Правильнее, по словам святителя, «вникать в себя хорошенько», чтобы посмотреть, нет ли внутри себя этого или какого-то иного недоброго состояния. При этом святитель напоминает вопрошающей о том, что прежде она просила Господа: «Начинайте вникать в себя строже. Станьте у сердца и замечайте, что оттуда выходит; потом обсуждайте, какого свойства это вышедшее. Если оно окажется гордостным хоть мало-мало, значит, гордость сидит в сердце и пускает оттуда такие пузырьки»[24].

До́лжно не только увидеть в себе имеющуюся страсть гордости, но и начать трудиться над искоренением ее.

В каждом из увещательных слов, обращенных к вопрошающей его, святитель Феофан указывает ей на необходимость пристального всматривания в себя и рассуждения о совершаемом, при этом он сознательно обозначает, какой должна быть позиция духовника в деле руководства и научения прохождению пути ко спасению: быть не за и не против человека, то есть не поддерживать его в ложном о себе мнении, не быть строгим судьей, как это может показаться обиженному и жалеющему себя духовному чаду, но именно научать тому, чтобы человек «присмотрелся хорошенько к себе» — увидел свои недостатки и сам проявил строгость и решительность в искоренении их.
Говоря же об обнаруженной страсти гордости, святитель Феофан дополнительно указывает на необходимость вновь обратиться к святоотеческому наследию с целью напомнить себе, пересмотреть, какие бывают проявления гордости. Он советует прочитать труды преподобных Иоанна Лествичника, Иоанна Кассиана, Нила Синайского, заметить получше все признаки проявления гордости и сличить с ними свои поступки. «Если хоть немногие и иногда проявляются, значит, гордость есть, — и надо ее искоренять»[25].
Важно отметить и то, что в писаниях святых отцов и подвижников благочестия указывается на то, что до́лжно не только увидеть в себе имеющуюся страсть гордости, но и начать трудиться над искоренением ее.
Обращаясь в одном из своих посланий к поставленному для Церкви пастырю — Титу — апостол Павел заповедует ему: Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя (Тит. 2:11-14).
Опасной страстью, требующей решительной борьбы, является и страсть гордости. Действительно, духовная слепота, в состоянии которой оказывается человек, побежденный гордостью, приводит к тому, что он ошибается в мнении о самом себе, обманывается, думая, что он имеет плоды смирения, принося на самом деле только плоды гордости. При этом, как отмечают святые отцы, ложным было бы думать, что, учась смирению, уже имеешь его: «Смирение себя еще не смирение, а желание и искание его»[27].
Очевидная опасность гордости принуждает духовника решительно действовать по отношению к духовному чаду. «Что старец укорил N за что-то, это целительное врачевство для N. И пусть воспользуется им»[28], — отмечает святитель Феофан.

На обижающего или оскорбляющего нас надо смотреть как на врача, исцеляющего нас от тщеславия и гордости.

Это особенно важно, поскольку так болезненно не реагируют чада на указание ни на одну другую страсть, как на обнаружение у них гордости и тщеславия. «Обличение в этом грехе принимают за личное оскорбление и обижаются, поэтому приходится умудряться и опытом жизни проводить свою линию, то есть без объяснения причин приводить к смирению. Приходится отстранять от человека то, что питает страсть гордости. Со временем человек понимает, что к чему и отчего»[29].
Мера увещевания и обличения, конечно, избирается духовником, от человека же требуется доверие и готовность следовать предлагаемым наставлениям, и в том числе через это воспитывать в себе смирение. Многие святые отцы говорят о том, что на обижающего или оскорбляющего нас надо смотреть как на врача, исцеляющего нас от тщеславия и гордости[30].
Таким образом, если увещевание не помогло, обличение для зараженного гордостью человека одновременно служит и отрезвляющим фактором, потому что он сразу начинает вспоминать о Боге, и важным средством, помогающим достичь исцеления. К тому же могут послужить и попущенные Господом скорби.
монах Кирилл (Попов)
Ключевые слова: гордость, обличение, увещевание, скорби.
[1]Феофан Затворник, свт.
Путь ко спасению. — М.: Правило веры, 2013. — С.112.
[2]Симеон Новый Богослов, прп.
Слова. — М.: Правило веры, 2015. — С. 90.
[3]Там же. С. 90-91.
[4]Там же. С. 93-94.
[5]Алексеев С., свящ.
Аскетическое наследие преп. Максима Исповедника. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. — Сергиев-Посад, 2008. — С. 89.
[6]Симеон Новый Богослов, прп.
Слова. — М.: Правило веры, 2015. — С. 90.
[7]Николай Сербский, свт.
Миссионерские письма. — М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2003. — С. 177.
[8] См. там же.
[9] См. там же.
[10]Николай Сербский, свт. Миссионерские письма. — М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2003. — С. 177.
[11]Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Макария. Т. 3. — М.: Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1862. — С. 148.
[12]Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению: (Кр. очерк аскетики). — М., 1899. — С. 268.
[13]Николай Сербский, свт.
Миссионерские письма. — М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2003. — С. 179.
[14]Симеон Новый Богослов, прп. Слова. — М., 1892. Репринт. — С. 268-269.
[15]Иоанн Кассиан, прп. Борьба с духом гордости // Добротолюбие. 2-е изд. Т. 2. — М., 1895. — С. 84. (Борьба с восемью главнейшими страстями).
[16]Иоанн Лествичник, прп. Борьба с гордостью // Добротолюбие. 2-е изд. Т. 2. — М., 1895. — С. 551. (О борьбе с восемью главными страстями).
[17]Агапит (Беловидов), схиархим.
Жизнеописание в Бозе почившего оптинского старца иеросхимонаха Амвросия: В 2 ч. — М.: Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1900. — С. 87.
[18]Феофан (Затворник), свт. Путь ко спасению. (Краткий очерк аскетики). 8-е изд. — М.: Типо-Литогр. И. Ефимова, 1899. — С. 91.
[19]Схиигумен Савва (Остапенко).
Опыт построения истинного миросозерцания. — М.: Паломник, 2004. — С. 544.
[20]Там же.
[21]Иоанн Лествичник, прп. Борьба с гордостью // Добротолюбие. 2-е изд. Т. 2. — М., 1895. — С. 545. (О борьбе с восемью главными страстями).
[22]Гумеров П., свящ.
Православная аскетика, изложенная для мирян. О борьбе со страстями. — М., 2010. — С. 193
[23]Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. — М.: Правило веры, 2007. — С. 379.
[24]Гумеров П., свящ.
Православная аскетика изложенная для мирян. О борьбе со страстями. — М., 2010. — С. 193.
[25]Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. М.: Правило веры, 2007. С. 379-381.
[26]Иоанн (Алексеев), схиигум.
Письма о духовной жизни. — М.: Свято-Троице Сергиева Лавра, 2014. — С. 187.
[27]Феофан (Говоров) свт. Собрание писем. Вып. 4. — М.: Типо-Литогр. И. Ефимова, 1899. — С. 215.
[28]Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Конкретное духовное руководство. О молитве особо. Духовникам и благочинным монастырей, протоиереям. — М.: Правило веры, 2012. — С. 268.
[29]Савва (Остапенко). схиигум.
Семена сатаны и любовь Христова. О главных христианских добродетелях и гордости. — М.: Неугасимая лампада, 2014. — С. 118.
[30]Ларше Ж-К. Исцеление психических болезней. — М.: Сретенского монастыря, 2007. — С. 181.
Новости по теме
Портрет гордого человека, или проявления страсти гордости
В чем проявляет себя гордость? Это можно сравнить с ростом сорной травы: всё начинается с малого, с семени, но какое именно вредное растение из него появится и как оно навредит доброй земле, станет ясно лишь со временем. И хорошо, если удастся вовремя остановить его рост, отличить сорняк от посевов, не дождавшись наиболее вредных проявлений его сущности.
Гордость и гордыня: значение слов и особенности перевода
Иеродиакон Кирилл (Попов)
Для наиболее полного понимания, что такое гордость и каковы ее свойства, необходимо установить и прояснить смысл этого понятия, а для этого выявить его функционирование в греческом языке: именно на него был переведен текст Септуагинты и на нем написан Новый Завет. А затем следует уточнить значение этого термина в славянском и русском языках, на которых читаем Священное Писание мы с вами.
«Борьба со страстями и укоренение в добродетелях по прп. Паисию Святогорцу». Часть 4: «Чем побеждается гордость».
Иерей Василий Родионов
Как проявляет себя гордость? Чем она страшна? Каковы способы борьбы с ней? На эти вопросы вы можете найти ответы в четвертой статье цикла о страстях и добродетелях, включающей в себя поучения преподобного Паисия Святогорца.