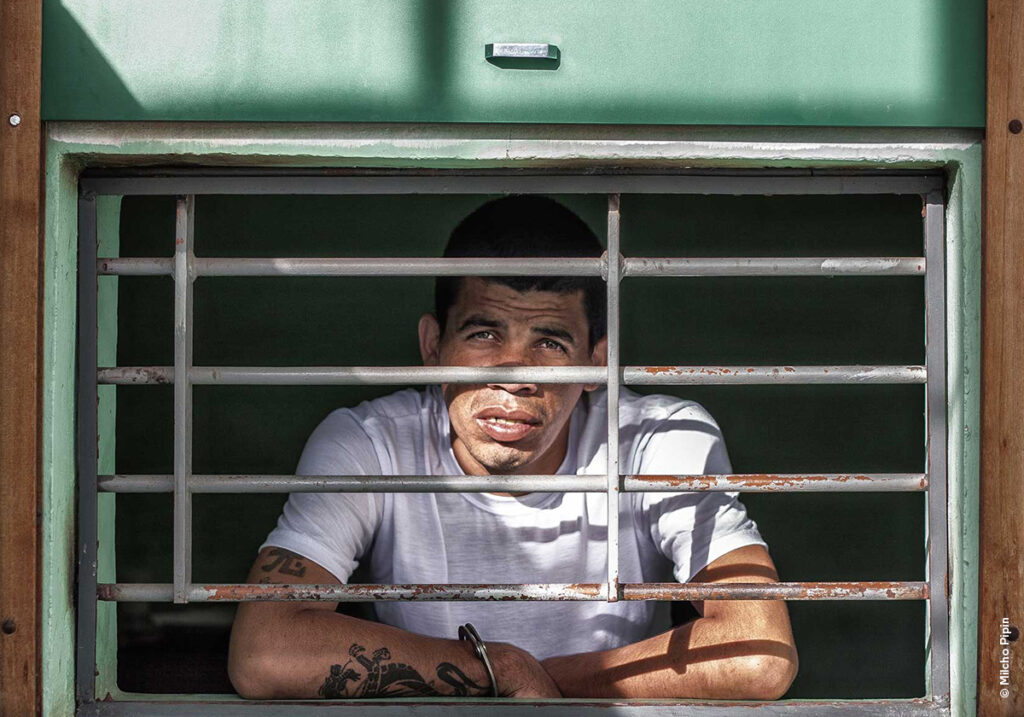В 2010 году журналисты The Guardian подсчитали, во сколько Великобритании обходятся тюрьмы. С 2000-го расходы на систему исполнения наказаний выросли с 2% до 2,5% ВВП страны. Содержание одного заключенного стоит казне 41 000 фунтов стерлингов в год. Комитет по вопросам правосудия предупреждает: если правительство будет настаивать на своем плане расширения пенитенциарной системы, ему придется в ближайшие 35 лет дополнительно изыскать 4,2 млрд фунтов стерлингов.
Читайте также
Исправляя «исправленных»: почему лишение свободы не решает проблему преступности и что с этим делать
Предназначение тюрьмы — предотвращать будущие преступления — также разбивается статистикой.
Тюрьма не спасает от рецидивов: 47% совершеннолетних правонарушителей в Великобритании совершают новое преступление в течение года после освобождения.
Для осужденных, отбывающих срок менее года за преступления небольшой тяжести, этот показатель возрастает до 60%. Среди лишенных свободы детей и подростков показатели достигают 75%. Рецидивы со стороны бывших заключенных ежегодно обходятся стране в 11 млрд фунтов стерлингов.
Тюрьма собирает вместе людей, которые способны, находясь в заключении, самоорганизоваться для будущих преступлений. Француз алжирского происхождения Мухаммед Мера два года пробыл в заключении за вооруженный грабеж. В тюрьме он познакомился с радикальными исламистами. Отбыв наказание, Мера совершил нападение на французских военных и еврейскую школу.
Эксперт по криминологии Франсуа О в интервью журналу «Атлантико» рассказывал, что случай Мухаммеда Мера не исключительный. После ряда взрывов, совершенных в 1995 году, Сафе Бурада, отбывая наказание в тюрьме, смог убедить ряд других заключенных примкнуть к нему. Прямо в тюрьме ему удалось организовать группу последователей для совершения терактов, причем некоторые из них даже не были мусульманами. Есть пример Абу аль-Заркауи, который до попадания в тюрьму считался неправедным мусульманином из-за алкоголизма. Как и Мера, радикалом он стал уже в тюрьме, а через несколько лет даже сделался главой «Аль-Каиды» в Ираке.
Ошибочно думать, что проблема в исламе. Франсуа О отмечает, что объединение в тюрьме характерно для представителей любых национальностей и религий — это служит способом самозащиты.
Кроме того, концепт тюрьмы смешивает вместе осознанных преступников и действовавших в состоянии аффекта.
Из-за этого люди, которые не имеют криминальных наклонностей и вряд ли бы совершили повторное правонарушение, попадают в среду, которая переплавляет их в полноценных преступников. Таким образом, тюрьма не только не уменьшает количества возможных преступлений, но и может увеличивать их число.
Система правосудия абсолютно обезличена, и это касается не только отношения к нарушителям. Размер наказания измеряется степенью вреда, нанесенного всему обществу в целом, однако про реальных жертв все забывают. Они используются как свидетели обвинения, а их нужда в моральном восстановлении остается вне поля зрения суда.
Однако непременно встает вопрос: если не тюрьма, то что? Нельзя ведь просто так отпустить преступников. Тем не менее в правовой практике разных стран есть случаи, когда за разные преступления нарушителей не сажали в тюрьму, а подвергали альтернативным формам наказания или же вовсе пытались им помочь.
Суды по наркотическим делам в Австралии: лечение вместо заключения
В австралийской системе правосудия существуют общественные исправительные учреждения. Нарушители регулярно отчитываются перед наблюдателем, которому поручено направлять преступника через образовательные программы, общественную работу и программы лечения, цель которых — исправление антисоциального мышления и поведения.
Может быть интересно
Что такое наркофобия
Для нарушителей, чьи преступления были каким-то образом связаны с употреблением психоактивных веществ, существуют отдельные drug courts — суды по делам о наркотиках, первый из них открылся в Новом Южном Уэльсе в 1999 году. Вместо уголовных сроков такие преступники получают интенсивное лечение и наблюдение.
Связь преступности и наркомании серьезнее, чем можно представить. В США, согласно исследованиям, большинство заключенных страдают от злоупотребления психоактивными веществами. 80% преступников злоупотребляют психоактивными веществами или алкоголем, в то время как почти 50% имеют зависимость. После выхода из тюрьмы от 60% до 80% наркопотребителей совершают новые преступления.
Читайте также
Наркополитика по-берлински. Как живут наркопотребители в столице Германии
Наркосуды в Австралии основываются на принципе, что с правонарушителями лучше иметь дело не на карательной основе, а на терапевтической. Такой подход применяется выборочно — например, к несовершеннолетним преступникам, чьи личные проблемы рассматриваются как причина нарушения закона. И суды решают, что вместо заключения под стражу правильнее будет разобраться с этими личными проблемами.
В таких судах обвинение и защита не противостоят друг другу, а работают вместе для составления удачной программы лечения.
Судья же выступает практически как личный психолог: постоянно общается с нарушителем на стадии лечения, реагирует на его обращения и разбирается в обстоятельствах его жизни, чтобы при лечении были учтены все факторы стресса. Правда, такой режим оказался неэффективным для более «тяжелых» преступников, которые были напряжены из-за постоянного контроля и провоцировали новые юридические проблемы.
В штате Западная Австралия суд по делам о наркотиках разработал три программы, нацеленные на разные категории лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами. «Режим кратковременного вмешательства» предназначен для обучения людей с незначительными обвинениями, связанными с каннабисом. «Режим контролируемого лечения» — для несовершеннолетних правонарушителей, злоупотреблявших психоактивными веществами. Возможность тюремного заключения грозила только постоянным рецидивистам за нарушения условий лечения. Более жесткий вариант действовал в штате Виктория. Там суды предлагали двухгодовую программу лечения от наркозависимости, однако за любое отклонение от нее пациент отправлялся в тюрьму.
Программы лечения, конечно, были далеко несовершенны и в каждом штате работали по-разному. В той же Западной Австралии пациенты жаловались на отсутствие безопасных центров детоксикации с доступом к психиатрическим услугам, длинный лист ожидания, нехватку реабилитационных услуг и отсутствие средств детоксикации, которые подходили бы для аборигенов. В других штатах жаловались на отсутствие помощи от соцработников или конфликты между лечением и юридической сферой.
Суды в Виктории и Квинсленде осуществляли аналогичный надзор за преступниками с алкоголизмом, однако в других штатах одну зависимость отделяли от другой. Дело тут в ориентации скорее на общественное мнение, чем на желание помочь определенной группе людей. Суды по психоактивным веществам пользовались популярностью, потому что фокусировали внимание на тех средствах, которые, по мнению многих, связаны с большей степенью зависимости. В топе для Австралии был героин.
Вера в то, что люди с героиновой зависимостью «нуждаются в лечении», потому что именно зависимость «заставляет» наркомана совершать преступления, была так распространена в обществе, что суды следовали за мнением большинства и при этом оставались на слуху.
Оценить эффективность таких судов оказалось сложно. Например, суд помогает избавиться от наркозависимости человеку, впервые в жизни совершившему мелкое нарушение — украл телевизор, например. За контрольный срок в два года рецидива не произошло. Есть ли в этом конкретный эффект от суда? Ведь часть подобных «преступников» обычно отфильтровывается сама и «ошибка молодости» в действительности оказывается случайностью.
Тем не менее, согласно экспертным оценкам, суды по делам о наркотиках показали свою эффективность: преступники получили доступ к лечению, масштаб наркозависимости в целом был сокращен, а суды, врачи и соцработники начали работать вместе. И главный эффект — показатели преступности сократились, а расходы на тюремную систему уменьшились.
Восстановительное правосудие: как примирить жертву и обидчика
Международные исследования доказывают, что большинство пострадавших, кроме некоторых жертв особо тяжких преступлений, больше заинтересованы в возмещении ущерба, чем в суровом наказании преступника. Однако во многих случаях реакция государства на преступление никак не затрагивает интересы жертвы. Восстановительное правосудие сосредотачивается на возмещении вреда, нанесенного преступлением, возвращении преступника в общество и предоставлении всем сторонам процесса — преступнику, жертве и обществу — возможности напрямую участвовать в осуществлении правосудия.
Может быть интересно
Любовь, смерть и купола: о чем говорит русский шансон
Восстановительное правосудие, или виктимология — это встреча лицом к лицу жертвы преступления и человека, его совершившего, процесс, посредством которого стороны, вовлеченные в конкретное правонарушение, совместно решают, как справиться с его тяжелыми последствиями в настоящем и в будущем.
Виктимология опирается на принцип «поскольку преступления ранят, то правосудие должно исцелять». Помогает ей механизм медиации — метод урегулирования конфликтов посредством третьей стороны. Медиатор должен сочетать в себе черты социолога и психотерапевта и при этом не навязывать собственные идеи конфликтующим. В виктимологии медиаторам иногда даже запрещают вносить свои предложения, чтобы итог работы был волей только участников конфликта. До применения в системе правосудия медиация была успешно опробована для решения проблем, связанных с насилием, в школах и семьях и даже для разрешения военных конфликтов.
Используя сценарий, медиаторы помогают выстроить диалог между сторонами. Скрипт обычно содержит подобные формы:
Что случилось, когда…?
О чем вы думали, когда…?
Что вы почувствовали, когда…?
Кто страдает от причиненного вреда…?
Что вам нужно сделать сейчас?
В Норвегии все муниципалитеты предоставляют услуги медиации, которая может быть использована в виде альтернативы наказания или его части. В последние годы количество дел, переданных в службы медиации, постоянно растет.
Пилотный проект был запущен в 2006 году на базе службы медиации Сёр-Трёнделага. Команды из представителей различных органов и институтов (полиция, органы опеки и попечительства, здравоохранение, школьное образование и исправительные учреждения) обеспечивают постоянное наблюдение за молодыми правонарушителями, систематически совершающими серьезные преступления.
В виктимологии наибольшую эффективность показал метод, при котором медиатор работает не только с преступником и жертвой, но и с их семьями.
Исследователи Мовен и Вишер выяснили интересный факт. Если семье не нужно пробивать бюрократические барьеры, чтобы добиться свидания с родственником в тюрьме, и она может видеть его в менее тягостной обстановке, то семья намного лучше принимает провинившегося, что играет огромную роль в принятии вины и социальном восстановлении.
Прощение в Древнем Вавилоне и исламском суде
Один из аспектов виктимологии — реституция, то есть возмещение жертве ущерба. Ее корни уходят глубоко в прошлое. Например, кодекс Хаммурапи, созданный около 1700 года до н. э., является одним из старейших дошедших до нас письменных сводов законов. В нем, кроме суровых наказаний, описывается ряд правил возмещения ущерба жертве в случае кражи, телесных повреждений и даже убийства.
203. Если свободный ударит по щеке свободного одинакового положения, то обязан уплатить мину серебра.
204. Если вольноотпущенник ударит по щеке вольноотпущенника, то обязан уплатить десять сиклей серебра. <…>
209. Если кто-нибудь, ударив свободную, причинит выкидыш ее плода, то должен уплатить за ее плод десять сиклей серебра.
Похожие примеры встречаются в античной и мусульманской практиках, в Библии и Салической правде франков. Исторически, вплоть до Средневековья, восстановление общественного мира при помощи реституции было основным содержанием законов и правосудия, а решение конфликтов имело более личностный характер. Лишь с установлением авторитарной власти правосудие полностью перешло в ее руки, а иногда и лично к монарху.
Правосудие стало способом разделять и подавлять, а не решать проблемы. А еще источником дохода — в конце эпохи франков штрафы за преступление в пользу государства стали основной формой наказания, причем выплачивались они в руки судье. Ущерб потерпевшего оставался его личной проблемой. Для государства это оказалось такой удачей, что от этой практики не избавились до сих пор.
Принципы примирительного правосудия исторически присутствовали и в мусульманских странах.
Основной акцент исламское право делает на человеческом достоинстве и таких ценностях сообщества единоверцев, как прощение, милость, покаяние, уважение к человеку, что рассматривается как смысл современной виктимологии. Как и во многих других традиционных обществах, преступление расценивается как забвение ответственности человека перед обществом и Богом, поэтому юридический ответ на него должен удовлетворить обе эти стороны.
Во всех правовых традициях ислама преступления делились на три категории: хадд, кисас и тазир. Категория хадд включает в себя кражу, супружескую измену, клевету, употребление алкоголя, разбой, мятеж и вероотступничество, но не включает убийство. Эти преступления считаются самыми тяжкими, поскольку наносят ущерб не только отдельным людям, но и всему религиозному сообществу, Богу и общественному правопорядку. Поэтому в религиозных текстах указываются конкретные наказания за эти деяния, например, смерть через побивание камнями за супружескую измену или отрубание руки за воровство. В этой категории преступлений мнение потерпевших практически не играет роли.
По-иному обстоит процедура в категории кисас, которая применяется в случае убийства или физического нападения. Кисас не имеет конкретных наказаний. Инициировать процесс всегда должны потерпевшие и их семьи, чьи голоса будут иметь решающее значение. В Иране судья не имеет права выносить решение по делу кисас без совещания с потерпевшими. Его роль в процессе включает также обязанности медиатора.
Для жертв и их семей существует несколько возможностей. Они могут объявить о полном прощении без наказания. Чаще проводятся переговоры о компенсации (дийя), которую можно считать аналогом современных форм реституции, символизирующих раскаяние преступника. Также на обвиняемом висит вира — плата для предотвращения кровной мести, однако если денег у обвиняемого нет, то ее выплачивают родственники или государство. Впрочем, пострадавшие могут потребовать и смертной казни, так что говорить о восстановительном правосудии получается от случая к случаю.
Читайте также
Конечная — отель «Нирвана». Таймлайн жизни Тимоти Лири
В преступлениях тазир применяется другой принцип гуманизации. В Коране тазир представлены как грехи: это злоупотребление доверием, растрата, лжесвидетельство. Однако наказания за них не описаны, а оставлены на усмотрение должностных лиц. Наказания за них самые мягкие, поэтому здесь возможен учет мнения потерпевшего.
Полное избавление от тюрем пока нигде не реализовано, а большинство существующих методов (вроде drug courts или штрафов за финансовые преступления вместо тюремного заключения) имеют ограниченную применимость. Так что усилия ученых и интеллектуалов, стремящихся к менее жестокому обществу, точно стоит направить в это русло.
Правосудие и правоохранительная деятельность в евразийском пространстве
Минязева Т.Ф., Добряков Д.А.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЁННОГО (ПРЕСТУПНИКА) КАК цЕЛь НАКАЗАНИЯ
цель: Анализ цели исправления осуждённого в уголовном и уголовно-исполнительном праве. Методология: В статье использованы метод анализа, сравнительный, историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В данной статье высказывается мнение о целесообразности исключения из текста ч. 2 ст. 43 УК РФ и ч. 1 ст. 1 УИК РФ такой цели наказания, как исправление осужденного (преступника), как недостижимой в условиях существующей системы исполнения наказания, а также по сути своей избыточной.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определённую научную ценность, поскольку в ней аргументируется позиция авторов о целях наказания, отличная от действующего законодательства, и содержатся предложения по его (законодательства) совершенствованию.
Ключевые слова: цель наказания, исправление осужденного (преступника), уголовное наказание, уголовный закон.
Minyazeva T.F., Dobryakov D.A.
REFORMING A CONVICTED PERSON (CRIMINAL) AS THE PuRPOSE OF PuNISHMENT
Purpose: The analysis of the purpose of reforming a convicted person in the criminal and criminal executive law.
Methodology: Method of analysis, comparative, historical-legal and formal-legal methods were used in the article.
Results: This article suggests the desirability of excluding from the text of part 2 of article 43 of the Criminal code of the Russian Federation and part 1 of article 1 of the Criminal executive code of the Russian Federation such purpose of punishment as the reforming (correction) of offenders (criminals) as unattainable under the existing penal system and inherently redundant.
Novelty/originality/value: The article has a certain scientific value, as it is argued position of the authors about the purposes of punishment, which is different from the current legislation, and includes suggestions for its (legislation) improvement.
Keywords: purpose of punishment, reforming a convicted person (criminal), criminal punishment, criminal (penal) statute.
В научной и учебной литературе отмечается, что вопрос о целях наказания является одним из самых спорных и стабильно привлекает внимание юристов-теоретиков. В ходе возникающей в этой связи дискуссии высказываются самые различные, зачастую полярные мнения, к наиболее радикальным из которых можно отнести, например, предложение вовсе отказаться от уголовно-правовой категории «цели наказания», заменив её «социальными функциями», поскольку они, функции, точнее отражают действительную роль уголовного наказания [1, с. 474-477]. Избегая выражения мнения по поводу других взглядов на проблему, уместно отметить, что в рамках данной статьи речь пойдёт не о целях наказания в их совокупности, месте и роли этих целей в уголовном праве, не о разнообразии взглядов и идей по данному поводу (хотя и их тоже придётся коснуться), а лишь об одной из целей наказания, а именно об исправлении осуждённого (преступника — данное уточнение приводится, чтобы подчеркнуть
направленность воздействия именно на преступника — лицо, не только признанное судом виновным в совершении преступления и осуждённое к наказанию, но и являющееся таковым в действительности). Представляется, что исправление преступника имеет ряд особенностей, качественно отличающих его от прочих целей наказания и при этом ставящих под сомнение необходимость упоминания его в законе — как минимум в нынешнем виде.
В ч. 2 ст. 43 УК РФ установлено три цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого, предупреждение преступности. Несмотря на то, что цели наказания в уголовном законе приведены последовательно, и это может интерпретироваться как попытка законодателя выстроить определённую иерархию целей, представляется верным утверждение, что все цели наказания должны преследоваться солидарно, т. е. в равной степени при назначении каждого наказания [2, с. 191].
евразийская
> 2(21) 2016 <
адвокатура
Первая и третья цели не имеют нормативно закрепленной трактовки, а потому могут быть раскрыты широко и очень разнообразно. Некоторые из таких интерпретаций, как то кара вкупе с компенсацией для восстановления социальной справедливости и удержание от совершения преступлений за счёт эффекта устрашения для предупреждения (превенции), кажутся вполне правдоподобными, а следовательно, достижимыми. Но вторая цель наказания — исправление осуждённого, мало того, что самой своей формулировкой вызывает немало вопросов, так ещё и имеет законодательное определение, которое лишь увеличивает число этих вопросов.
Так, ч. 1 ст. 9 УИК РФ определяет исправление осуждённого как формирование у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а также стимулирование правопо-слушного поведения. Все эти качества полагаются необходимым свидетельством утраты лицом (преступником) признака общественной опасности. В данной связи указывается, что перечисленные качества могут быть выработаны у личности в связи с применением к ней уголовного наказания [3, с. 27-28]; по крайней мере, так считает законодатель, включивший именно такую формулировку определения исправления осуждённого в закон, хотя сомнительным кажется всё, начиная с самого этого определения и заканчивая его (определения) смыслом.
Содержащееся в законе определение исправления осуждённого делает акцент на личности преступника, а не на преступлении, которое эта личность совершила (как следовало бы, ведь наказание, прежде всего, является следствием совершения преступления, а никак не следствием «преступности» какого-то лица), на формировании у лица уважительного отношения к обществу и его ценностям, а не на осознанном воздержании от совершения новых запрещённых уголовным кодексом деяний. Закон содержит норму о социальном исправлении преступника, однако оно, социальное исправление, является задачей воспитательной работы, связанной не только и не столько с назначением и исполнением наказания, сколько с деятельностью всех общественных институтов, отвечающих за социализацию личности [4, с. 82]. Более корректным здесь будет говорить о цели юридического исправления, т. е. об уже упомянутом осознанном воздержании от совершения новых преступлений, основание которого вовсе не обязательно должно быть связано с качественными изменениями в личности преступника.
Данное в ч. 1 ст. 9 УИК РФ определение исправления осуждённого близко повторяет ст. 20 УК РСФСР, где говорилось, что наказание «имеет целью исправление и перевоспитание осуждённых в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития». Помимо поправки на изменившиеся с 1960 года приоритеты (упомянуты человек и общество, ни слова о социализме), было исключено упоминание перевоспитания осуждённого, фактически подразумевающееся как часть исправления, а то и вовсе являющееся синонимичным исправлению термином (либо термином, более широким, чем исправление, и включающим в себя исправление как начальный этап процесса перевоспитания). В комментарии к УК РСФСР 1960 года (в редакции 1994 года) отмечается, что исправление и перевоспитание преступника больше относятся к процессу исполнения наказания, т. е. к области уголовно-исполнительного (исполнительно-трудового) права, а не уголовного, в рамках которого наказание отвечает скорее цели предупреждения преступности. Исполнение же наказания «влияет на психику людей и вызывает стимулы законопослушного поведения» [5, с. 69-71]. Интересно, что намеченное в советской (и ранней постсоветской) доктрине разделение цели исправления преступника на цель наказания в уголовном праве и цель исполнения наказания в уголовно-исполнительном праве встречается (и даже развивается) и в современное время. Так, например, утверждается, что цель исправления осуждённого в уголовно-исполнительном законодательстве имеет более широкое содержание, чем в уголовном, поскольку предполагает достижение совокупности юридического и социального исправления посредством полного преобразования «социально-психологического облика осуждённого» [6, с. 367-368]. Однако подобное деление кажется излишним. Уголовно-исполнительное право носит процессуальный характер по отношению к уголовному и, следовательно, призвано обеспечить (и уточнить) процедуру реализации положений уголовного закона в части наказания. Цель же исправления преступника в уголовно-исполнительном праве представляется не чем иным, как уточнением, легальной трактовкой цели исправления преступника в уголовном праве, т. е. по сути той же самой целью. Но всё это никак не исключает проблемного характера этой цели наказания, а напротив, позволяет говорить о том, что её наличие в законодательстве является отголоском ушедшей в прошлое вслед за старым уголовным законом доктрины.
EURASIAN
> 2 (21) 2016 <
ADVOCACY
Проблемный характер цели исправления преступника как цели наказания обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, можно ли всерьёз отнестись к идее полного преобразования социально-психологического облика преступника в рамках применения уголовного наказания и посредством мер уголовно-правового и уголовно-исполнительного воздействия? Вероятно, да, но лишь если говорить о комплексном воздействии на его личность, в котором наказание будет только одним из элементов воздействия, его частью и при том точно не большей. Гипотетическая же способность уголовного наказания самостоятельно справиться со столь масштабной и сложной задачей обладает чертами околонаучной фантастики, хотя даже в фантастических произведениях подобный подход к значимости наказания (и прочих репрессивных мер со стороны государства) подвергается критике. Например, в романе-антиутопии Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» есть такие строки: «…обычный преступный элемент, даже самый отпетый …, лучше всего реформировать на чисто медицинском уровне. Убрать криминальные рефлексы — и дело с концом. <.> Наказание для них ничто, сами видите» [7, с. 96]. Интересно, что изображённые английским писателем результаты альтернативного традиционному уголовному наказанию медицинского «реформирования» преступника — воздействия на личность на уровне физиологии, вовсе не предполагая какого-либо осознания преступности поведения, а равно и формирования неких приемлемых социальных установок, — оказались крайне неоднозначными. В результате даже такая крайняя и «революционная» мера фактически не привела к исправлению преступника. Сильно бы отличался итог, если бы нечто похожее происходило не на страницах художественного произведения, а в действительности? Для наглядности уместно привести данные, характеризующие реальную и более или менее актуальную ситуацию: в 2014 году было осуждено 241765 ранее судимых лиц, а точнее — лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, что составляет 33,6 % от всех осуждённых лиц (719305 лица) [8]. Вместе с тем, около 187 тысяч лиц были осуждены к лишению свободы три раза и более и содержались в местах лишения свободы в рассматриваемом году (всего же содержалось в местах лишения свободы около 665 тысяч лиц, т. е. речь идёт о 28,1 % от общего числа), при этом абсолютное значение этого показателя росло последовательно с 2012 года [9]. Можно ли сделать из этих «сухих» цифр какие-то выводы? Разве только обобщённые и выглядящие
следующим образом: доля рецидивов преступлений остаётся практически неизменно высокой (ведь треть от всех преступлений — очень весомый показатель), что выявляет недостаточную эффективность применения наказания (даже привлечения к уголовной ответственности как таковой) для цели предупреждения совершения новых преступлений (лицом, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности), а уж тем более для цели исправления преступника.
Во-вторых, реальное — юридическое — исправление по сути своей является частным (специальным) предупреждением (превенцией), а никак не какой-то самостоятельной целью наказания. Юридическое исправление лица представляет собой результат реализации цели частного предупреждения и выражается в несовершении новых преступлений вследствие рационального отказа от самой мысли об их возможном совершении. И представляется совершенно не важным, что привело к осознанному отказу лица от совершения нового преступления — некое моральное преображение личности или обыкновенный страх претерпевания негативных последствий наказания вновь. Важен сам факт отказа от совершения нового преступления, именно отказ является показателем эффективности применения уголовной репрессии, а равно и целью наказания, именуемой исправлением [10, с. 263-265], тождественной по содержанию другой цели — частному предупреждению совершения новых преступлений.
В-третьих, цели наказания должны быть реальными, т. е. достижимыми, и достижимыми всеми наказаниями в равной степени. Последнее обстоятельство особенно важно, ведь в законе нет уточнения, что формулировка цели исправления осуждённого относится только к исполнению наказаний, связанных с лишением свободы. А значит не только этот вид наказания (лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы; сюда же можно отнести частично применяемый арест), для которого более или менее детально определены средства исправления осуждённого, и точно не смертная казнь, радикально и окончательно исключающая любую возможность совершения лицом нового преступления, но и все прочие наказания, начиная со штрафа и заканчивая ограничением свободы, должны достигать целей наказания, установленных в уголовном законе. Но могут ли, например, сто пятьдесят часов обязательных работ или штраф в несколько десятков тысяч рублей развить у человека уважение к другим людям, обществу, труду, правилам и нормам человеческого общежития и т. д.? При
евразийская
этом речь идёт именно о действительном и ощутимом для лица негативном воздействии, а не о мифическом общественном порицании и прочих дополнительных факторах, лишь теоретически призванных сопутствовать наказанию. Кажется, что в данном контексте цель исправления осуждённого, одинаково определяемая для всех наказаний, недостижима и носит исключительно декларативный характер, что существенно снижает её ценность.
Наличие проблемы, а в данном случае проблемой является недостижимость и неуместная в уголовном праве (и праве вообще) чрезмерная декларативность (т. е. нереальность) исправления осуждённого как цели наказания, подразумевает поиск её решения. В качестве такого решения подходящим кажется если не полное исключение всех упоминаний об исправлении осуждённого из уголовного (из ч. 2 ст. 43 УК РФ) и уголовно-исполнительного законодательства при отождествлении юридического исправления с целью частного предупреждения совершения новых преступлений, то, как минимум, уход от формулировки ч. 1 ст. 9 УИК РФ, содержащей определение (во многом устаревшее и совершенно оторванное от реальности) социального исправления как цели исполнения наказания.
Это, на наш взгляд, заложило бы основу для изменения самого подхода к уголовному законодательству в целом и построению системы наказаний в частности, позволило бы отойти от декларативных норм, не способствующих противодействию преступности, а также послужило бы началом кардинального реформирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Пристатейный библиографический список
1. Уголовное право на современном этапе. Проблема преступления и наказания / под ред. Н.А. Беляева, В.К. Глистина и В.В. Орехова. СПб., 1992.
2. Адельханян Р.А. Уголовное право России. Практический курс: учебник / под общ. и науч. ред. А.В. Наумова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2010.
3. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015.
4. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учеб. пособ. М.: Статут, 2015.
— адвокатура
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: на-учн.-практич. комм. / под ред. Л.Л. Кругликова и Э.С. Тенчова. Ярославль: Влад, 1994.
6. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. 4-е изд., перераб. и доп. M.: Проспект, 2015.
7. Бёрджесс, Энтони. Заводной апельсин; Семя желания / пер. с англ. В.Б. Бошняка, A.A. Комаринец. M.: АСТ, 2015.
8. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. URL: www.cdep.ru/ userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_2008-2014.xls.
9. Федеральная служба государственной статистики. Число лиц, содержащихся в местах лишения свободы [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru/free_ doc/new_site/population/pravo/10-11.doc.
10. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. M., 1973.
References (transliterated)
1. Ugolovnoe pravo na sovremennom jetape. Problema prestuplenija i nakazanija / pod red. N.A. Beljaeva, V.K. Glistina i V.V. Orehova. SPb., 1992.
2. Adel’hanjan R.A. Ugolovnoe pravo Rossii. Prak-ticheskij kurs: uchebnik / pod obshh. i nauch. red. A.V. Naumova. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Volters Kluver, 2010.
3. Kommentarij k Ugolovno-ispolnitel’nomu kodeksu Rossijskoj Federacii (postatejnyj) / A.V. Brilliantov, S.I. Kurganov; pod red. A.V. Brilliantova. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2015.
4. Sundurov F.R., Talan M.V. Nakazanie v ugolovnom prave: ucheb. posob. M.: Statut, 2015.
5. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii: nauchn.-praktich. komm. / pod red. L.L. Kruglikova i Je.S. Tencho-va. Jaroslavl’: Vlad, 1994.
6. Rossijskoe ugolovnoe pravo: v 2 t. T. 1. Obshhaja chast’: uchebnik / pod red. L.V. Inogamovoj-Hegaj, V.S. Komissarova, A.I. Raroga. 4-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2015.
7. Bjordzhess, Jentoni. Zavodnoj apel’sin; Semja zhela-nija / per. s angl. V.B. Boshnjaka, A.A. Komarinec. M.: AST, 2015.
8. Sudebnyj departament pri Verhovnom Sude Ros-sijskoj Federacii. Dannye sudebnoj statistiki [Jelektron-nyj resurs]. URL: www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_ statistika/Sbornik_2008-2014.xls.
9. Federal’naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Chislo lic, soderzhashhihsja v mestah lishenija svo-body [Jelektronnyj resurs]. URL: www.gks.ru/free_doc/ new_site/population/pravo/10-11.doc.
10. Karpec I.I. Nakazanie. Social’nye, pravovye i krimi-nologicheskie problemy. M., 1973.
2 (21) 2016
Ранее действовавший
УК РСФСР предусматривал две цели
наказания — исправление и перевоспитание.
Теорией и практикой они воспринимались
как парные категории.
Перевоспитание
понималось как такое воздействие
наказания на осужденного, результатом
которого является коренная переделка
основных свойств характера и личности
виновного, когда не просто уничтожаются
отдельные отрицательные привычки и
взгляды, а создаются новые социально
полезные личностные установки. Бывший
преступник больше не нарушает уголовный
закон, поскольку это противоречит его
новой системе ценностей. В научной
литературе многократно отмечалось, что
наказание является довольно грубым
инструментом воздействие на сознание
человека. Ставить перед ним такую сложную
цель как перевоспитание – значит явно
переоценивать возможности этого
института уголовного права. Более
рационально воспитывать людей, а в
случае необходимости их перевоспитывать,
используя педагогические и психологические
механизмы, лишенные элементов, существенное
ограничивающих права и свободы человека,
характерные для уголовного наказания.
Законодатель пришел к выводу, что ставить
перед наказанием цель перевоспитания
осужденного нецелесообразно и
неэффективно. Поэтому в ч. 2 ст. 43 УК РФ
теперь говорится только лишь о цели
исправления.
По мнению Н.А.
Беляева, исправление — это такое изменение
в сознании преступника, когда он, не
превращаясь в активного и сознательного
гражданина, становится безопасным для
общества. В ст. 9 УИК РФ исправление
определяется как формирование у
осужденного уважительного отношения
к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого
общежития и стимулирование законопослушного
поведения. Представляется, что такое,
законодательно определенное понимание
исправления является слишком широким
и в значительной мере по своему содержанию
перекрывает понятие перевоспитания,
исключенное из УК РФ. Действительно,
уважительное отношение к закону, если
оно не было сформировано в юные годы в
семье и школьном коллективе, может быть
достигнуто органами, исполняющими
уголовное наказание, лишь путем
уничтожения отрицательных привычек и
взглядов осужденного и создания взамен
новых социально полезных установок
личности. Такой результат больше похож
на перевоспитание, как оно понимается
в теории уголовного права. Поэтому
исправление, как цель уголовного
наказания, надо понимать более узко и
конкретно.
Исправление – это
несовершение осужденным нового
преступления в силу нежелания вновь
подвергнуть уголовному наказанию,
которое он однажды уже испытал. Исправление
осужденного достигается главным образом
в результате реализации карательного
содержания наказания. Бывший преступник
становится безопасным, поскольку в нем
сильно чувство страха перед возможным
наказанием.
4. Предупреждение совершения новых преступлений как цель уголовного наказания
Цель предупреждения
совершения новых преступлений может
быть рассмотрена в двух аспектах: 1)
предупреждение совершения новых
преступлений самим осужденным (специальное
предупреждение); 2) предупреждение
совершения преступлений иными лицами
(общее предупреждение).
В теории уголовного
права сформулировано две позиции
относительно содержания цели специального
предупреждения преступления.
Первая из них
исходит из того, что цель исправления
охватывается целью специального
предупреждения. Цель специального
предупреждения считается достигнутой
как в том случае, когда виновный исправился
и не совершает новых преступлений, так
и тогда, когда он в процессе отбывания
наказания не исправился, но новых
преступлений не совершает, поскольку
это не дают сделать режимные ограничения,
определяющие порядок исполнения
наказания (А.А. Пионтковский).
В соответствии с
другой позицией цели исправления и
специального предупреждения являются
полностью самостоятельными (Н.А. Беляев).
Специальное предупреждение преступлений
достигается исключительно за счет
лишения осужденного физической
возможности совершить новое преступление.
Это достигается, например, путем изоляции
от общества в случае применения лишения
свободы. Осужденный, конечно, может
совершить преступление в отношении
представителей администрации
исправительной колонии или в отношении
таких же осужденных, однако, на срок,
указанный в приговоре, он лишен физической
возможности совершить преступление
против остальных граждан, находящихся
на свободе. В случае применения
альтернативных наказаний (штраф,
обязательные работы, исправительные
работы) осужденный ставится на учет в
уголовно-исполнительную инспекцию, что
в значительной степени затрудняет
совершение новых преступлений. Если
назначается наказание в виде лишения
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью,
то осужденный утрачивает возможность
злоупотреблять должностными полномочиями
или превышать их.
Специальное
предупреждение как цель уголовного
наказания заключается в лишении
осужденного технической или физической
возможности совершить новое преступление.
Это достигается, прежде всего, за счет
его изоляции от общества и последующем
контроле за поведением в процессе
отбывания наказания (в случае осуждения
к лишению свободы). При осуждении к
другим видам наказаний специальное
предупреждение достигается за счет
лишения осужденного тех благ и полномочий,
используя которые он совершил преступления.
Специальное предупреждение реализуется
в процессе
исполнения назначенного наказания.
После того
как наказание будет отбыто, специальное
предупреждение может быть дополнено
исправлением осужденного.
Каждое преступление
нарушает охраняемую уголовным законом
систему общественных отношений и
показывает пример другим лицам, как
совершать аналогичные деяния. Поэтому
наказание имеет одной из своих целей
удержание от совершения подобных
преступлений других субъектов. Общее
предупреждение как цель уголовного
наказания заключается в предупреждении
совершения преступлений уже не самим
осужденным, а всеми иными лицами.
Большинство граждан
соблюдает требования уголовного закона
потому, что это соответствует их
собственным интересам. Определенная
часть лиц не совершает преступлений
потому, что учитывает возможность быть
наказанным за это. И, наконец, находятся
такие, которые, несмотря на угрозу
наказанием, все-таки преступления
совершают. Возникает вопрос: каков
механизм реализации общепредупредительного
воздействия? За счет чего наказание,
применяемое к конкретному лицу, оказывает
удерживающее воздействие на иных
граждан?
Момент общего
предупреждения проявляется уже в самом
существовании уголовного закона,
запрещающего под страхом наказания
совершение преступления. Уголовно-правовая
норма определяет, какие общественно
опасные деяния являются преступными,
и, устанавливая наказание, подлежащее
применению к лицам, совершившим
преступления, тем самым оказывает
предупредительное воздействие на всех
субъектов уголовно-правового регулирования.
Это предупредительное воздействие
состоит в том, что в индивидуальном
сознании создается отчетливое
представление об определенных действиях
как преступных, которые устойчиво
ассоциируются с наказанием, выступающим
последствием их совершения. Каждый
случай реального применения уголовного
наказания за конкретное преступление
дополняет это удерживающее воздействие
от нарушений закона лицами, которым
стало известно об этой реакции государства.
Чем большую огласку в печати, обществе
получает факт применения наказания за
преступление, тем сильнее он стимулирует
субъектов уголовно-правового регулирования
к законопослушному поведению.
В теории уголовного
права было высказано мнение о том, что
общепредупредительное воздействие
наказания распространяется только на
неустойчивых лиц, склонных к совершению
преступления (Н.А. Беляев, А.Л. Ременсон).
С этим выводом нельзя согласиться,
потому что он противоречит конституционному
и уголовно-правовому принципу равенства
граждан перед законом. Ошибочно считать,
что общепредупредительное воздействие
наказания обладает избирательностью
и кого-то обходит. Неправильно делить
все население на потенциальных
преступников и законопослушных граждан.
Общепредупредительное воздействие
наказания в отношении большинства
граждан обеспечивается не за счет их
устрашения, а путем укрепления чувства
уважения к закону, активизации их
позитивного правомерного поведения, в
том числе и в форме противостояния
преступным проявлениям.
Сущность общего
предупреждения заключается в неотвратимом
применении наказания ко всем преступникам,
чтобы представление о преступлении, с
которым субъекты связывают различные
выгоды и наслаждения, было вытеснено
из их сознания другим представлением
– о грозящем наказании, с которым
отчетливо связаны лишение и ограничение
прав и свобод преступника.
Специальное
предупреждение всегда стоит на первом
плане в правоприменительной деятельности,
а общее предупреждение реализуется
лишь в тех пределах, в которых это
позволяет делать основная цель –
предупреждение совершения новых
преступлений самим осужденным. Смещение
акцента в балансе этих двух целей может
привести к опасности применения так
называемых «примерных наказаний», когда
один пойманный преступник наказывается
чрезмерно строго, за всех непойманных.
Такая практика ведет к несправедливому
усилению уголовной репрессии.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
04.06.201515.12 Mб188Лекции Теор Мех.pdf
- #
- #
- #
- #
Страна и мир
01 декабря 2022
Милость к падшим. Меняет ли тюрьма преступников?
В конце концов они возвращаются — те, кто обрек людей на боль и слезы, обкрадывал и обманывал, брал взятки и торговал наркотиками. Те, кого суды временно изолировали от общества. Какими они вернутся к нам? Стоит ли нам их бояться и что сделать, чтобы они снова не встали на преступный путь и не вернулись за решетку? Наш сегодняшний собеседник — декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета Надежда КРАЙНОВА — занимается этой темой много лет и является одним из признанных специалистов по ресоциализации осужденных, вышедших на свободу.
ФОТО pixabay
— Давайте, Надежда Александровна, для начала определимся с целями наказания. Как их формулирует наш закон?

— Здесь, казалось бы, сомнений нет — статья 43 УК РФ определяет четко: «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». Но, как показывает мой многолетний опыт общения с людьми, которые провели за решеткой не один год, исправить никого из них невозможно. Имеет смысл говорить об их возвращении в социум с минимальным риском для них самих и окружающих. Поэтому я пришла к выводу, что понятие «исправление» в упомянутой статье УК было бы лучше заменить на слово «ресоциализация».
Полагаю, что таковую нужно внести в Уголовный кодекс как функцию уголовно-правового воздействия. При этом она должна быть применена абсолютно ко всем осужденным, а не только к тем, кто приговорен к лишению свободы.
Оговорюсь, что некоторые мои коллеги со мной не согласны — они считают, что, хотя исправление и невозможно, эту цель все равно необходимо ставить как идеальную, к которой нужно стремиться. Есть и те, кто, наоборот, считает, что таких людей просто не надо возвращать в социум, к ним необходимо применять другие формы изоляции.
— По поводу условий содержания заключенных, как известно, также есть разные точки зрения. Одни требуют ужесточения («чтобы они прочувствовали свою вину!»), другие — за «гостиничный комфорт», как во многих европейских тюрьмах. Где тут золотая середина?
— Разумеется, я против того, чтобы места заключения превращались в «санатории». Надо сопоставлять условия содержания с теми, в которых живут обычные люди. Если за решеткой будет лучше, чем на воле, то у многих появится соблазн совершать преступления, чтобы туда вернуться.
Преступник, безусловно, должен чувствовать, что он наказан. Но только изоляцией и суровыми условиями жизни, а не унижением и не подавлением его человеческого достоинства. Более того — отношение государства к нему важно не только для него самого, но и для нас всех, законопослушных граждан. Нельзя вбрасывать в общество идею жестокости, беспощадно ломающей чью‑то жизнь и не дающей человеку шанса на выживание в нормальных условиях после освобождения.
Я также против смертной казни, которая многим кажется радикальным решением всех проблем с преступностью. И не потому, что мне жалко преступников — некоторые из них по большому счету такую меру заслужили. Мне прежде всего жалко нас — в этом случае власть демонстрировала бы нам свою слабость, неумение решить проблему иным путем. Фактически это не победа над преступником, а признание своего поражения. Лишить человека жизни гораздо проще, чем обеспечить ему возможность нормально жить — работать, заводить семью…
— А что, наши осужденные, покидая места лишения свободы, так уж всегда к этому готовы?
— К сожалению, нет. Колония их к этому не готовит. Хотя понимание проблемы в нашей уголовно-исполнительной системе есть, и сейчас она сильно реформируется. Принята соответствующая концепция развития до 2030 года. Она довольно прогрессивна, предполагает большую открытость, ориентацию на идеи ресоциализации. С 2000‑го, когда я защищала свою кандидатскую диссертацию и активно работала в колониях, там многое изменилось. Созданы, например, школы по подготовке осужденных к освобождению. Но сами сотрудники, которые там преподают, признаются, что обучение носит характер, весьма оторванный от реальной жизни. К тому же результаты этих занятий никто не проверяет. Что остается в головах у обучающихся, неизвестно. И как они свои знания применят после выхода на свободу, по сути, никому не интересно.
Да, в колониях есть психологи, но их крайне мало — на каждого из них, как и в 2000 году, в соответствии с действующей нормой, приходится 300 осужденных. При этом, как признают сами работники психологических служб, фактически они отвечают лишь за то, чтобы заключенные не совершили побег или суицид. Ни на что другое у них нет ни времени, ни сил.
— У вас есть конкретные предложения?
— Есть. Хотя многие мои коллеги в связи с этим обвиняют меня в идеализме. Я очень сильно рассчитываю на роль общественных институтов. Вот конкретный пример: с тех пор как уголовно-исполнительная система стала активно взаимодействовать с религиозными организациями, разрешила на территории пенитенциарных учреждений строить храмы и отправлять религиозные обряды, уровень преступности там значительно снизился. Особенно среди несовершеннолетних — их неустоявшаяся психика явно лучше реагирует на проповеди церковных пастырей. Как рассказывали мне сотрудники колоний, даже мероприятия благотворительных фондов, проводимые на территории этих учреждений, уже настраивают ребят на положительный лад. И здесь огромный профилактический ресурс, ведь большинство преступников начали свою «карьеру» именно в несовершеннолетнем возрасте! Как правило, это дети из неблагополучной социальной среды, недополучившие родительской любви и заботы.
К сожалению, в гораздо меньшей степени можно рассчитывать на ресоциализацию тех, кто оказался в заключении по «наркотическим» статьям. Чаще всего это люди, попавшиеся по глупости, прельстившись на большие деньги. Но сроки по этим статьям огромные, человек находится в шоке, и доброе слово до него просто не доходит.
— А как вы себе представляете большую открытость, которую предполагает упомянутая вами концепция развития ФСИН? Экскурсии в колонии в целях профилактики преступности?
— Экскурсии — это хорошая идея. Один из моих итальянских коллег, преподаватель университета, обязательно водит своих студентов в места заключения, показывает условия жизни там. Но сейчас необязательно куда‑то ходить реально — есть Интернет, при желании все можно показать на определенных сайтах. Разумеется, это не значит, что заключенным будет обеспечен свободный выход в Сеть — этим должны заниматься сотрудники исправительно-трудовых учреждений.
Сегодня же каждая колония — это «крепость», живущая по своим внутренним законам. Но общество должно понимать, что там происходит. Тогда нам будет легче выстраивать отношения с бывшими заключенными. А им — встраиваться в наш мир. Таким образом, в процесс ресоциализации будут включены не только государственные институты, но и мы, законопослушные граждане.
— Давайте все‑таки начнем с государства. Оно‑то как этим занимается?
— По большому счету — недостаточно. Для этого должна быть организована так называемая служба пробации. Ее создание сейчас активно обсуждается, есть даже проект федерального закона. Но до реального воплощения этой идеи в жизнь еще очень далеко. Таким образом, система наказаний на сегодняшний момент по‑настоящему реализует лишь одну функцию — изоляцию осужденного от общества.
— А ведь судимость предполагает еще некоторое поражение в правах — например, запрет на педагогическую деятельность, службу в силовых или правоохранительных структурах и т. д. Это усложняет ресоциализацию?
— Возможно. Но общество должно думать не только о правах человека, покинувшего места заключения, но и о собственной безопасности. Необходим некий баланс ограничений и свобод. Более того, по моему мнению, ресоциализацию нужно распространить и на потерпевших от преступлений. Их права были нарушены, они могли потерять здоровье или имущество. Кто компенсирует им это все? Осужденный со своей мизерной зарплаты, которую он получает (если получает!) в колонии? Разумеется, нет. Считаю, что государство должно взять эти расходы на себя. В том числе при необходимости обеспечить и охрану потерпевших — ведь им могут поступать новые угрозы. Бывает, что преступники, выйдя на свободу, находят таких людей и они снова становятся жертвами…
— В связи с этим встает вопрос о рецидивной преступности. Можете ли вы что‑то сказать о ее состоянии на сегодняшний день?
— По официальным данным МВД РФ, рецидив сегодня составляет около 50 %. То есть каждый второй покинувший места лишения свободы снова совершает преступление. Но и эти данные уже не отражают реальную ситуацию. В связи с реализацией политики «экономии репрессий» у нас введена новая мера уголовно-правового характера — судебный штраф. Он может быть назначен за преступления небольшой и средней тяжести, но в отличие от обычного штрафа не предполагает судимости. Таким образом, подвергнутый этому наказанию не попадает в статистику рецидивной преступности. В целом же таковая у нас растет. А с учетом активного выполнения задачи разгрузки исправительно-трудовых учреждений можно предположить, что в недалеком будущем там окажутся только ранее судимые.
— Что ж, возможно, здесь есть рациональное зерно: раз тюрьма человека не исправляет, пусть «впервые оступившийся» перековывается на воле…
— С одной стороны, это хорошо — человек живет в нормальных условиях, а не за решеткой. Но по отношению к обществу это выглядит не совсем справедливо — в обыденном сознании наказание, не связанное с лишением свободы, наказанием не является. Хотя все прекрасно понимают: тюрьма — это крайняя мера, когда человек действительно представляет опасность. И здесь мы — в общемировом тренде: если раньше Россия по численности заключенных на 100 тысяч населения входила в пятерку лидеров (которую традиционно возглавляют США), то в последние годы она откатилась на 30‑е место.
— Теперь бы еще, перефразируя известного сатирика, отстать поколичеству преступников…
— Давайте вспомним советские времена. Уровень преступности был значительно ниже, чем сейчас, — дети играли во дворе без присмотра взрослых, ночью можно было спокойно гулять по улицам. Конечно, здесь влияли многие факторы, но один из весьма существенных — профилактика рецидивной преступности. На предприятиях существовали специальные квоты по приему на работу для бывших осужденных. Исполкомы районных советов ставили их на учет и оказывали помощь. Реально работали домкомы, товарищеские суды при ЖЭКах, которые тоже вели работу с данным контингентом. В девяностые годы эту практику похоронили, но сейчас, судя по всему, придется к ней возвращаться.
Активно способствовала профилактике преступности служба участковых инспекторов милиции. Но сейчас этих стражей порядка, ставших полицейскими, практически не видно. Более того, изменилось само отношение к «дяде Степе». Раньше его воспринимали как человека, который в трудной ситуации поможет. Сегодня — либо боятся, либо игнорируют. А системы профилактики как таковой просто нет.
Между тем проблема, что называется, вопиет. Вот, к примеру, люди, осужденные за сексуальные преступления. Они практически неизлечимы — рецидивность 99 %. Далеко не все из них получают пожизненные сроки — большинство рано или поздно выходят на свободу. Как оградить окружающих от них? В США, например, их персональные данные заносят в специальный реестр, который находится в открытом доступе.
— Не самый лучший вариант… Ведь это только провоцирует таких людей на новые преступления.
— Возможно. Но что у нас? Уголовно-исполнительная инспекция с минимальным штатом сотрудников, получающих к тому же весьма небольшие зарплаты. У них нет ни возможности, ни мотивации для полноценного контроля даже за самым проблемным контингентом. Уже не говоря об отбывших срок по менее тяжким статьям, освобожденным по УДО или отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы. Эту структуру надо совершенно точно переформатировать. Да, существует уже упомянутый мною законопроект о службе пробации. Но там совмещены понятия контроля и социальной помощи. А это, на мой взгляд, совсем не одно и то же. Контроль — это все‑таки сфера деятельности правоохранительных органов, а не гражданских организаций. И он должен быть жестким, постоянным, а не «когда придется» или «до первого случая».
— Ежеминутный контроль невозможен. А что должны чувствовать люди, рядом с которыми живет сексуальный маньяк, даже отбывший законный срок? Их жизнь превращается в ад…
— Согласна. Но сейчас, к сожалению, все подопечные уголовно-исполнительных инспекций находятся в равном положении — нет разделения на «не опасных» и «опасных». Между тем за последними кроме полицейского необходимо и постоянное медицинское наблюдение. Если врачи придут к выводу, что такой человек реально представляет угрозу для окружающих, надо подумать о применении к нему каких‑то форм изоляции. Возможно, необходимо создать что‑то вроде лечебно-трудовых профилакториев, существовавших в советские времена. Да, они потребуют бюджетных расходов, но, думаю, законопослушные граждане возмущаться не будут — ведь это вложения в их безопасность.
— Интересно, есть ли где‑то примеры реального решения таких проблем?
— Есть, например, хороший опыт Казахстана. Там работает служба пробации, налажен контроль за выходящими на свободу. Другой пример — Япония, страна с одним из самых низких в мире уровней преступности. Там колоссальную роль играет общественное мнение. Некоторые виды преступлений вызывают тотальное отторжение. От того, кто их совершил, отворачиваются все — родные, коллеги, друзья. Он становится изгоем, ему остается только сделать харакири. И это мощный сдерживающий фактор. Но если речь идет о преступлениях, к которым общество относится более лояльно, то тут наоборот — человека поддержат, не дадут ему пропасть.
Но копировать чужие модели бесполезно — так или иначе они базируются на укладе конкретного общества, своей национальной традиции. Нужно нарабатывать собственную практику, основанную на нашей, российской, идентичности. В свое время мы похоронили понятие «государственная идеология». А зря. Ведь помимо пропагандистской риторики она содержала нравственные ориентиры, на которых воспитывались целые поколения.
Да, нашему народу свойственно как чувство справедливости, так и сочувствия, «милости к падшим». Осталось только формализовать эти внутренние посылы, облечь их в политическую волю, реализовать в виде законов и конкретных структур. Не сомневаюсь, что рано или поздно это будет сделано.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 226 (7310) от 01.12.2022 под заголовком «Милость к падшим».
Материалы рубрики
Комментарии
Тема тюрьмы, условий жизни заключенных, справедливости наказаний и смысла лишения свободы становится одной из ключевых тем общественной дискуссии. Наталья Кузнецова знает о том, что переживает человек, попавший в тюрьму, не понаслышке. Много лет она занимается помощью заключенным. В последнее время как член Общественной наблюдательной комиссии Московской области по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания (ОНК МО), представитель от РОО «Милосердие». Священник Дмитрий Свердлов поговорил с Натальей Кузнецовой о том, что такое современные российские тюрьмы и колонии.
Наталья Кузнецова. Фото: miloserdie.ru
— Каковы ваши общие впечатления от мест лишения свободы?
— Тюрьма есть место окаянное. Поэтому лучше никого туда не помещать. При этом бывают такие люди, которые действиетльно представляют реальную угрозу окружающим. Но, честно говоря, за все время своей работы я повидала немалое количество людей в следственных изоляторах и в колониях, и у меня создалось впечатление, что значительная часть этих людей могла бы там не находиться. Нет необходимости изолировать их от общества.
Конечно, их не нужно идеализировать, но и демонизировать тоже не нужно.
Лишение свободы почти никого не исправило. Наоборот. Как правило, только криминализовало. Человек приучается жить по этим криминальным законам. Если он до этого их еще не знал и попал в первый раз, то он приобретает тот опыт, который мог бы не приобретать.
Смысла содержать это оргомное, по-моему, число заключенных — 740 тысяч человек в России по состоянию на 1 мая – я не вижу никакого. Кроме того, у нас есть порядка 340 тысяч сотрудников, которые охраняют и обслуживают заключенных. Сюда надо еще прибавить родственников и вообще всех связанных с этой сферой — социальных работников и прочие службы. Мне кажется, что в итоге чуть ли не треть страны связана с системой исполнения наказаний.
Заключение не идет заключенным на пользу. Собирается в одном месте огромное количество совершенно разных, чужих людей, вынужденных жить бок о бок, в довольно стесненных условиях. С одной стороны, они преступники, и нет основания устраивать им курорт. Но, с другой стороны, условия все-таки должны быть человеческими.
— А они нечеловеческие?
— На свободе разве у всех человеческие? Далеко не у всех. Так вот там — в квадрате. Следственный изолятор — это вообще учреждение, где подследственные люди содержатся. Их туда закрыли, изолировали для того, чтобы они не сбежали, не мешали расследолванию какого-то дела. И вот они там сидят.
Фото: Доктор Che, photosight.ru
— При этом они невиновны, поскольку их вина не доказана?
— Пока они под следствием, пока их вина не доказана и суд не признал их виновными и не приговорил их к какому-то виду отбывания наказания, то они не осуждены. Но они уже там. Они лишены свободы, они отлучены от семьи, дети отлучены от мам, от отцов. Что же в этом хорошего?
На дворе 21-й век, тюрьмы наши пытаются ремонтировать, приспосабливать к международным нормам, но до этого всего еще далеко. Понятно, что когда ты приезжаешь с какой-то плановой проверкой, тебе показывают камеры — все так, вроде, чистенько. И вот встают тетеньки, у них там койки до сих пор двухярусные. А то и три яруса бывает, если перенаселение… Матрас, подушка, одеяло. Тумбочка. Туалет шторкой загорожен. Или не загорожен — тогда надо написать, чтобы загородили. Стол, на столе большая миска, полная окурков. Дышать довольно сложно в такой камере, накурено. Сам язык, на котором там все говорят, и вообще сама атмосфера…
Я когда приезжаю, я смотрю в первую очередь всегда с точки зрения, что бы было, если бы сюда попала я? Или кто-то из моих близких родственников. Как выжить? Вот этого я не знаю. Я не считаю себя сильным человеком. Удержалась ли бы я там? Не могу себе ответить. Мне хочется надеяться и верить, что да, моя вера меня как-то бы поддержала. Но пока не проверишь, не узнаешь. Потому что это аттракцион не для слабонервных.
Много тяжелых историй. Одна женщина просила помочь нашу комиссию со своим ребенком. Ему 10 или 11 лет. Она осуждена, но дело подано на пересмотр, и она бьется, чтобы ей сократили срок. А ребенка пока забрали в детдом. Это, ладно, нормально. Но что самое ужасное, мальчика выставили на усыновление. Как это возможно в принципе?! Дело подано на пересмотр, она теоритически скоро может освободиться, а ребенок будет усыновлен другими родителями? Причем это не та мать, которая бросила сына, а та, которая хочет сама его воспитывать. Она писала директору детдома, просила этого не делать. И никакого ответа нет.
Как люди там живут? На маленьком пространстве развешаны какие-то вещи, что-то разложено. Табор в миниатюре. Только в таборе семья, а здесь люди, которые по стечению обстоятельств загнаны в одно помещение. Тут с родным мужем пойди уживись в одной квартире, а в таких условиях как? Я понимаю, что есть действительно преступники. Есть женщины, которые с жестокостью совершили какие-то преступления. Но большинство не совершали общественно опасных деяний.
Условия заключения совершенно однозначно негативно влияют на человека, могут ввергнуть человека в уныние, в депрессию. Или он начнет защищаться, держать себя жестко, что тоже ему не на пользу. И человеческого остается все меньше. Если ты хочешь там выжить, то тебе приходится быть жестким.
Вот, например, женская колония. Более, чем полторы тысячи тетенек, от 18 до 65 и старше даже. Ты все время на виду. Ты не можешь уйти в комнату. Ты не можешь даже в туалете уединиться. Ты бесконечно как на ладони. И вот ты варишься в таких обстоятельствах… То же и в СИЗО. Только там тебе могут еще и сказать : «Вы знаете, мы выяснили, вы невиновны. Вы можете уходить».
— Невиновны? Уходить? Но я знаком со статистикой, которая говорит, что у нас очень небольшой процент обвиняемых получает оправдательный приговор.
— Да, это правда. Но это не значит, что все осужденные действиетльно виновны. Представьте, кого-то арестовали, велось следствие, десятки человек задействованы. Считается, что они профессионалы. И вдруг суд его оправдывает. То есть выясняется, что все они работали напрасно, и человек невиновен, а главное — преступление не раскрыто? Система нечасто готова это признать.
Вот еще история, из последних ужасных случаев, в СИЗО в Егорьевске. Члены нашей комиссии ездили разбираться с этим. Погиб подследственный. Родителям сказали, что парень повесился. А на самом деле экспертиза была проведена с целым рядом нарушений. Повторная экспертиза в городской больнице выяснила, что у него побои по всему телу и следы, похожие на изнасилование. При первичной экспертизе не взяли даже анализы и не провели исследование, смерть наступила до или в результате удушения. Он якобы повесился в штрафной камере на проводе. Ну как в штрафной камере мог оказаться провод, когда даже крестик с человека снимают?
Дальше. В Саратове парня приговорили к 120 часам принудительных работ. А он не вышел на эти работы, потому что нога была сломана, в гипсе. Приехали домой, увезли в колонию, а через несколько дней позвонили родителям и сказали, что умер от сердечного приступа. И тело не хотели отдавать, мол, сами похороним. Конечно, родители не согласились, приехали. Тело – сплошной синяк, голова отрезана и пришита. Это страшно.
Для меня здесь есть огромная проблема. Я общаюсь с сотрудниками как проверяющий или просто приезжаю от «Милосердия» с какой-то гуманитарной помощью, акциями, концертами. И сотрудники исправительных учреждений — все вроде бы нормальные люди. Ну, может быть, иногда погрубее разговаривают с народом. Иногда поспокойнее…
Но что с ними происходит потом? Вот это страшное искушение, когда в твоей полной власти находится другой человек. И если нет внутренних тормозов, то крышу сносит. Потому что можно себе позволить, что угодно, можно с этим человеком делать все, что угодно. Но при этом даже не доказано, что тот человек преступник. Все эти случаи, про которые мы сейчас говорим, происходили в СИЗО.
…Я все время меряю на себя. Если бы я туда попала, как я могла бы там выжить? Как? За счет чего? Если ты слабак, то будешь там страдать. Для того, чтобы как-то там утвердиться, нужны определенные качества — и эти качества, скорее всего, не те, какие мы бы хотели видеть в заключенном, когда он вернется оттуда в общество.
— Почему в таком случае эта мера пресечения, заключение в СИЗО, так популярна в отечественной юридической практике?
— Ну, тюрьма — самая дорогая гостиница в мире. В любой стране. Содержать тюрьму — это очень накладно для государства, но очень выгодно для ведомства, это очень большие средства. И потом, эта система сложилась не вчера. Мне кажется, она не то чтобы даже советская, а она еще из НКВД. «Все — враги народа, всех закрыть». «Нет человека, нет проблемы».
Мне кажется, что можно не сажать очень многих из этих людей. Сейчас такое количество современных технологий, когда можно отслеживать перемещение человека, можно организовать ему домашний арест. Эта система воспроизводит саму себя, она абсолютно нечеловеческая. Она карательная, а не исправительная. Человека посадят в СИЗО. Он еще не осужден, но его уже карают. Ну что ж это такое?
— А когда люди призывают государство к избранию этой меры пресечения, почему это происходит?
— Они просто сами там не были. Нет личного опыта? «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Евангелие еще никто не отменял.
Мне кажется, что очень изменился мир. Человеческая жизнь перестает быть ценностью вообще. Раньше, в войну, люди в плен сдавались, чтобы любой ценой сохранить жизнь. В лагерях на предательства шли, только чтобы выйти живому. Я не говорю, что это правильно, но…
Сейчас не так. Есть знакомые молодые ребята, девочонки. Ты им говоришь: «Ну что же вы? Вы пьете, делаете разные убийственные вещи с собой. Вы портитие себе жизнь. Вы можете просто рано умереть. Вы в таких местах бываете, где риск внезапной смерти возрастает в разы. Что же вы так к своей жизни относитесь?» Они говорят: «А пофиг». И вот от этого вот «а пофиг» мне страшно, потому что такого не было. Наверное, было, но не в таком масштабе, и у людей таких молодых не было. Я не помню такой период и не читала о нем, чтобы это было так.
Бывало, наверное, что человек махнул рукой на свою жизнь, но надо было до этого момента дойти. А сейчас у них в начале жизни вот такое отношение к жизни.
Это может быть связано с виртуализацией жизни. Они насмотрелись в компьютерных играх, где кровь рекой и все умирают понарошку. И вроде они понимают, что это смерть, но в то же время они понимают, что это не смерть. Может поэтому они так и относятся к своей жизни.
Но проблема еще и в том, что они так и к другой жизни относятся. Им ни своей не жалко, ни чужой. Беда просто. У нас в России вообще, конечно, всегда было так, что «бабы новых нарожают». Вот оно и оттуда тоже. Это не вчера началось. Но мы-то с вами, ребят, живем сегодня? Мы то отвечаем за себя. Если мы хотим все-таки, чтобы мы были людьми, нельзя же в средневековье, в жестокость все время сваливаться?
— Что может Церковь сегодня сделать для того, чтобы, если не радикально изменить ситуацию, хотя бы попытаться поправить?
— У нас почти во всех колониях и во многих СИЗО есть храмы. Где-то отдельно стоящие, где-то домовые. Если нет храма, то есть часовня или молительная комната. Приезжаешь, спрашиваешь: «О, у вас храм?» — «Да, у нас храм». — «А в честь кого?» Дальше тишина. Ни сотрудники, ни заключенные не знают.
В редких случаях, где действительно батюшка бывает каждую неделю, его там все знают. Знают, как зовут. Знают, когда приезжает. Но это скорее исключение. В большей части храм стоит, но закрыт. По большим церковным праздникам, конечно, почти везде служат. Во многих местах – примерно раз в месяц. Ну, не хватает священников.
— То есть храм существует номинально?
— «А батюшка бывает?» — «Бывает». — «А часто бывает?» — «Часто» — «А как батюшку зовут?» — «Ой, не помню. Сейчас помнил, но забыл». Сотрудники еще, может быть, знают, как зовут. Почему знают? Потому что они его зовут на все мероприятия. На спартакиаду, куличи освящать, иногда на крещение покропить все крещенской водичкой.
Может, мне не повезло, я не во всех колониях была. Но я ни в одном тюремном храме не видела расписания служб. Если бы, не приведи Господи, я куда-нибудь туда попала в качестве заключенной, я не представляю, как бы я могла причаститься, исповедоваться. «А когда приедет батюшка?» — «Когда сможет. Только что был, уехал».
Обязательств нет. Обязательств перед людьми в первую очередь.
Что делать? Не знаю. Можно, конечно, административными мерам священников заставить. Можно поставить в каждую колонию по священнику, чтобы он там служил 2-3 дня в неделю. Но милосердия по разнарядке не бывает. И если он сам этого служения не любит, или не расположен, или ему это не близко — ну что ты тут сделаешь? Да и где столько священников-то найти?
— Какой выход из этого может быть?
— Если бы был выход, он, наверное, был бы уже найден… Мне кажется, что нужен более широкий общественный контроль. Вот в тех же районных отделах, куда задержанных доставляют – почему не сделать прозрачную стену, чтобы родственники могли прийти и увидеть, что с человеком все в порядке? Речь не о свидании, не об общении, но просто чтобы увидеть и успокоиться.
Еще, наверное, нужна ротация членов общественных комиссий. Потому что начинает замыливаться глаз. Человек начинает привыкать, смотреть на происходящее не снаружи, а уже как бы изнутри системы. Как свой. Но это тоже нужно делать обдуманно, не менять весь состав ОНК, а вводить новых людей, чтобы те, кто уже наработал опыт, могли им поделиться с новенькими.
Кроме того, я думаю, что если будет ротация наблюдателей, то больше людей узнают, увидят, что именно происходит в этой системе. И не будет иллюзий, будет меньше равнодушия, несопричастности.
Вы меня простите, Мне кажется, что я говорю какие-то всем известные вещи и не открыла никакой Америки. Но если вдруг открыла кому-то глаза на что-то, хорошо бы, чтобы они и оставались открыты.
Читайте также:
Священник Константин Кобелев: Тюрьма – как модель общества
Протоиерей Александр Альтмарк: «Я исповедую пожизненно осужденных»
Исповедь тюремного священника
Смягчение Уголовного кодекса необходимо
Протоиерей Димитрий Смирнов: У нас в стране десятки тысяч людей сидят ни за что
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
Современная судебно-уголовная система РФ, сама того не сознавая, исходит из принципов эпохи Просвещения. Главной целью ФСИН, как следует из статей 1 и 9 Уголовно-Исполнительного кодекса РФ, является исправление осужденного, т.е. исправление человека, его души. Преображение из преступника обратно в члена социума, соблюдающего установленный общественный порядок.
Стоит задуматься о самом слове «исправление». Мы можем исправить ошибку в написанном слове, исправить криво растущее деревце, вправить вывихнутый сустав. Подразумевается, что и человек представляет собой похожий объект, который можно вправить и исправить в соответствии с идеей эпохи Просвещения, что человек — это tabula rasa, чистый лист, который можно наполнить содержимым, как того захочет «автор» -«социум». А неправильное содержание легко поддается правке. Современная тюрьма «родилась» также на заре эпохи Просвещения, переход к тюрьме явился результатом новой «технологии», развивавшейся в XVIII веке, — «технологии» дисциплины и восприятия «человека как машины». Генезис «тюрьмы» замечательно описан М.Фуко в работе «Надзирать и наказывать» (1975); в настоящей работе описывается тотальный кризис «тюрьмы» и как концепта, и как «наказательно-исправительной» практики… В условиях российского законодательства человек за свой проступок должен провести какое-то время в исправительной колонии, где время и занятие трудом устранят девиацию и сделают человека, его душу снова нормальной. Вопрос, с точки зрения суда, состоит лишь в том, сколько времени нужно для устранения девиации.
На деле же современная система ФСИН находится в глубочайшем кризисе, не выполняя ни одну из задач: ни исправления, ни наказания, ни возвращения человека в социум, ни предотвращения рецидива. Для понимания всей проблематики сего текста, как и ошибок ФСИН, надо понимать, что слово «человек» не значит ничего, кроме определенного внешнего сходства (2 руки, 2 ноги, одна голова). Это крайне обобщающее слово, порождающее одинаковый подход ко всем людям, попавшим за решетку. С детства для нас человек, попавший в тюрьму, ассоциируется с чем-то ужасным. «Плохой дядя совершил что-то ужасное и поэтому сидит в тюрьме», — слово само по себе похожее на «смерть» (что не так уж далеко от истины). Но с возрастом понимаешь, что в тюрьму может попасть каждый, не обязательно только «плохой» человек, каждый может ошибиться, а может и вообще получить срок за просто так, учитывая опыт советского прошлого и новостные сводки настоящего. Специфика нашей страны. Люди, попавшие в тюрьму, делятся по своей природе условно на два полюса (группы): криминальная (девиантная личность) и человек оступившийся, не склонный по своей натуре к криминалу, но по воле случая или обстоятельств преступивший закон. Между этими двумя полюсами находится множество разных людей с разными историями и разным прошлым, но провести чёткую границу более чем возможно.
Начнём анализ практической стороны системы наказания. Вся её суть, начиная с СИЗО, куда отправляют подавляющее большинство обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления, хотя УПК РФ допускает и другие меры пресечения, заключается в нахождении в изоляции от свободного общества, чьи законы человек нарушил. С этого момента и начинается его путь к исправлению и трансформации его ума и сердца. Для многих обычных людей («оступившихся») первый месяц пребывания в СИЗО уже становится шоком и главным потрясением в жизни. Спектр эмоций велик: и страх, и тоска по близким, и переживания за семью, и надежда на изменение меры пресечения (чего не происходит). Надежда на выход под домашний арест живёт в душе практически у каждого человека в первые полгода заключения, лишь бы побыстрее вернуться к своим близким, лишь бы побыстрее закончилась эта ошибка, хотя если подходить рационально, это невыгодно в связи с новыми правилами пересчёта срока отбывания под стражей (2 дня домашнего ареста — 1 день в колонии). Но чувства сильнее разума, тем более, если законом это допускается, и в ряде случаев, если человек не опасен для общества, это было бы разумнее. Исходя из опыта, можно сказать, что если в первые 3, максимум, 4 месяца человек не осознает своей ошибки, не сожалеет о содеянном и не раскаивается, то дальнейшее его пребывание в местах заключения с эфемерной целью «исправления» абсолютно бесполезно — цель недостижима.
Многие же в первые 3 месяца каются во всех грехах своей жизни, нередко рассматривая попадание в тюрьму как кару Божию за что-либо, не связанное с преступлением. Само же преступное деяние вызывает как минимум сожаление. Тут стоит разобрать и термин «раскаяние», вполне официально используемое в нашей судебной практике. В христианстве раскаяние подразумевает осознание пагубности греха, действия или бездействия и даже мысли, идущего от сердца (души) человека, как существа по своей природе падшего, несущего в себе гены первых преступников – Адама и Евы. Через сие осознание следует искреннее покаяние перед Богом, дабы грех был прощен, а с его помощью и не повторен. Стоит сказать, что с христианской точки зрения это не удавалось даже святым, считавшими себя самыми большими грешниками, так что требовать от среднестатистического заключенного раскаяния — задача невероятно амбициозная для уголовно-исполнительной системы. Для безопасности общества вполне достаточно, чтобы з/к сожалел о поступке, осознал его противоправность и последствия содеянного, не ставя перед ФСИН задачу построить христианскую общину времен апостолов.
Дальнейшее пребывание в застенках (свыше полугода) нисколько не приближает з/к к «исправлению» и раскаянию. Человек лишь окончательно примиряется с тем, что он теперь зэк и часть другого мира. С этого момента вольно или невольно тюремный мир начинает становиться «своим», что является благодатной почвой для развития в характере и поведении человека злобы и раздражительности на всю систему, которая его здесь держит и не учитывает его искренних переживаний. И действительно, что сожалеть о содеянном, если это не приблизит его к свободе? Дальнейшее «сидение» представляет собой лишь бессмыслицу, особенно в тех условиях, которые существуют в нашей стране. Цель возвращения человека в социум здесь не достигается абсолютно. Человека изолируют от всего того, что делало его человеком — семья, работа, учеба, общественные и культурные интересы, заставляя его находиться 24 часа в сутки с незнакомыми и чуждыми ему людьми количеством от двух до тридцати. Довольно странная особенность тюрьмы, роднящая её с такими институтами как армия, школа, пионерский лагерь.
Не касаясь темы преступного мира, тюрьма превращает человека в ходячий труп-паразит, так как для окружающего мира его нет, он умер, вычеркнут из жизни, не имеет к ней никакого отношения. Для общества он мёртв. Я бы даже назвал тюрьму «репетицией» смерти. В современной системе зэк отчужден от социума, никак с ним не связан и не даёт ему никакой отдачи. Жизнь зэка довольно ограничена. Человек превращается в воспоминание. Причем в воспоминание-паразит: сидеть в тюрьме — «удовольствие» не дешевое, требует постоянного финансирования. Теоретически в колонии зэк получает деньги за работу, но не всегда за эти гроши может прокормить даже себя, и тем более что-нибудь дать своей семье. Кругозор и занятия зэка (судя скорее по СИЗО, чем по ИК) ограничены и скудны, как и каждый прожитый день. Если не вдаваться в философские рассуждения, что и на воле многие живут как в тюрьме (а примеры привести можно), то безусловно зэк не может ничего дать миру своего прошлого и своему окружению. Если присоединить к этому и вливание в тюремную среду, т.е., в новый социум, со своим бытом, со своим общением, знакомствами и «движениями», то отрыв от нормальной жизни становится катастрофическим. Лично я, когда ездил на суды и на психолого-психиатрическую экспертизу в первые полгода, с жадностью «проглатывал» куски увиденной из автозака свободы. Помню, как на одном светофоре стояла девушка, закрываясь зонтиком от дождя. Терпеть не могу холодные осенние дожди, но тогда я завидовал ей невероятно и готов был стоять, идти, бежать под этим дождем, хоть с зонтиком, хоть без. Сейчас же, по прошествии года, вольные пейзажи больше не вызывают у меня каких-либо чувств. Какие-то люди ходят по каким-то улицам, ну и что, в телевизоре они тоже ходят, путешествуют и что-то рассказывают. Свобода становится воспоминанием-призраком, чем-то вроде передачи «Орел и решка» по ТВ: где-то есть вся эта воля, ну а мне то что, я сижу и буду сидеть дальше. К тюремной жизни и АУЕ-субкультуре мы вернёмся чуть позже, а пока рассмотрим условия СИЗО и неволи дальше, как и выполнение ими поставленной цели.
За время следствия (хорошо, если оно длится год) и судов (могут длиться и пару лет) человек имеет право только на два коротких свидания в месяц и то на усмотрение следователя и звонок продолжительностью 15 минут один раз в неделю по заранее согласованным номерам. Свидания представляют из себя разговор по телефону с человеком через разделяющие вас с человеком стекло и решетку продолжительностью в час и без всякой возможности соприкоснуться друг с другом. Даже в редких свиданиях проявляется издевательская сущность системы. Телефонный разговор по автомату 15 мин. в неделю (выводят в 8 утра)- такая же издевка, порождающая круговорот коррупции и идиотизма.
При описании бессмысленности системы нельзя обойти стороной тему «народной статьи» (228 — наркотики), не так давно всколыхнувшей общество. По статистике 25% всех з/к в России сидит по 228 статье, «средний чек» по которой выписывается в 10 лет (+/-2). Это одна из самых распространённых статей с невероятно большими сроками и с минимальными послаблениями (нет пересчёта дней в СИЗО, на УДО только после ¾ отсиженного срока, минимум). За время своего заключения в спецблоке Матросской Тишины, где половину з/к составляют обвиняемые по 228 статье, я достаточно хорошо изучил «состав» и психологию «народников» (речь идёт об «оступившихся», а не о крупных поставщиках, в основном гражданах Таджикистана, везущих героин с Афгана). Стоит заметить, что за 15 месяцев я встретил не более 10 чел. сидящих за хранение (т.е. употреблявших). Вся остальная армия сидит за сбыт. В основном это молодые люди 18-35 лет, немало тех, кто ещё вчера сидел за партой в ВУЗе, а сегодня они сидят «в хате». Все они вляпались по собственной глупости, имя которой легион, и являются либо пешками в наркобизнесе, либо оказались не в то время и не в том месте, либо решили разок подзаработать на курьерстве. Все случаи отменной глупости человеческой перечислить здесь невозможно, не хватит места, но надо отметить, что бывают случаи «а-ля Голунов», где если и не подкидывают наркоту, то очень легко переводят хранение в сбыт (чаще всего с 228 ч.2 в 228.1 ч.4), тем самым повышая нижний порог на 7 лет (с 3 до 10 лет). Бывают случаи, когда напуганный наркоман говорит «это не мое, я другу нёс», думая, что избежит наказания, а в итоге подписывая себе 10 лет строгого режима. Психология этих глупцов такова, что их сложно назвать криминальным элементом.
Сбыт наркотиков по своей природе отличается от основной массы «блатных» преступлений (грабежи, разбои, кражи со взломом). «Барыга» — это не грабитель, не разбойник. Для того, чтобы зайти с оружием в торговую точку и с угрозой применения насилия вытрясти кассу и сбежать надо иметь дух и определённое девиантное мужество, также как и полное презрение к законам общества. Барыжество и пресловутые закладки изначально дело тех, кто не имеет «духа» на совершение открытых преступлений. Кто способен лишь украдкой, прячась («шкерясь») тихо и дрожа идти по улицам с пакетиком веществ в кармане. По психологической (природной) опасности для общества барыга намного легче поддается «исправлению» нежели налетчик с оружием, но фактически такой дурак за один раз получает больше, чем блатной за несколько «ходок». Сроки по 10-15 лет не могут вообще являться каким-либо исправлением. Если срок в 5 (+/- 2) лет можно воспринимать как трудное и бесполезное исправление ошибки, отсчитывая месяцы до освобождения, то срок в 10-15 лет для молодого человека — это приговор и уже более чем реальное превращение в живой труп. 10 лет ежедневной тюремно-лагерной жизни с её субкультурой, жестокостью, бесполезной работой, отчужденностью от мира и социума вряд ли способствуют возвращению в социум, в дотюремный мир. Человек вернётся искалеченным, а не исправленным.
Короче говоря, на деле мы сталкиваемся с системой изгнания человека из социума, напоминающее скорее наказание в традиционном обществе. Своровал у соседа трех гусей – уходи из нашей деревни, ты больше не наш. Изгнание, а не возвращение исполняется в СИЗО и ИК. Да простят мне мой антигуманизм, который является как раз самым настоящим гуманизмом, но физические наказания в виде розг или ударов кнутом имеют намного больше смысла нежели 10-летнее издевательство и превращение человека в ходячий труп: без семьи, без перспектив после выхода, без развития (любого во всех сферах), без жизни. Можно много говорить о непотребности физических наказаний, их унизительности, варварстве и проч. Но нельзя не согласиться, что в них есть логика и рациональная задача: страх и насилие являются инструментами для удержания и принуждения индивидуума к порядку. Да, разговоров про душу и её исправление здесь нет вообще, но, значит, нет и фальши. Жестоко, но логично. В контексте нашей беседы, большинство таких барыг, мною описанных, заслуживают не более чем хорошей (и страшной) взбучки с последующим отправлением домой. Но это предложение, конечно же, скорее эмоциональное, нежели разумное.
Теперь же мы перейдем к другой группе, кого можно обозначить как «прирожденные преступники» и кто составляет основу тюремного мира и диктует в нем свои законы – это армия блатных. В этой среде тюрьма и лагерь не считаются проблемой вообще, это их дом, где многие живут лучше, чем на воле. Как пишется в малявах: «мир Д.Н.О.», что значит «мир дому нашему общему», также как и тюрьма имеет ещё и другое, «блатное» название – «дом вора». Койка есть, кормят, поят, с людьми общаешься, каждый день «движуха». Как я слышал от одного многократного сидельца: «А чё на воле делать? Дом-работа, работа-дом, скука. А в тюрьме каждый день разный». А самое главное, здесь подобные элементы стоят на вершине иерархии. В вольном мире большинство из них не представляет из себя ничего – бездельники, неудачники, отбросы общества, почему и попадают в тюрьму. Здесь же, в этой системе, они – боги, вершащие судьбы. То, как пытаются жить на спецблоке нормальные люди, зачастую вызывает презрение. С их точки зрения, такой образ жизни (спокойно сидеть в сторонке) не подобает вести порядочному арестанту. Их проблема – им нечего делать на воле, на воле они никому не нужны, да и воля эта им особо не нужна. Поэтому с особой гордостью они говорят о количестве «ходок» (отсидок). 3, 4, 5, 6 -цифры, которые встречаются не редко. Сами условия тюрьмы их нисколько не смущают, они ей живут, в то время, как другие от них страдают. Не будем вдаваться глубоко в описание АУЕ-культуры, чью историю и суть лучше всего описал Солженицын (конкретно см. «Архипелаг Гулаг», кн. 3, гл. 16, «Социально-близкие»). Нас здесь заботит тот факт, что в отношении этой группы (криминальные личности) тюрьма такое же бесполезное место, как и для «ошибающихся». Т. о., современная система не наказывает тех, кого надо наказывать и не исправляет других, как раз-таки больше наказывая, бессмысленно отдаляя от социума, нежели возвращая в него.
После всего предложу конкретные и более реальные изменения, которые могут быть осуществлены в более чем реальные сроки. Начать стоит с самих судов, а именно повысить меры экономического воздействия на преступника. В век капитализма обществу и государству выгоднее воздействовать на преступника экономически, нежели довольствоваться тем, что он шьет варежки где-то в колонии под Калугой. Также и политика «закрыть всех» при избрании меры пресечения на время следствия должна измениться. Активно должен использоваться залог, который у нас в стране есть, но не используется вообще. После ходатайства Михаила Абызова о залоге в 1 млрд. рублей, отклоненного судом, говорить о существовании этой меры пресечения в России неприлично. Также как и мера пресечения в виде домашнего ареста должна применяться чаще, нежели сейчас. СИЗО переполнены людьми, годами сидящими и ждущими суда. Выезды раз в 2-3 месяца на суд по изменению меры пресечения в простонародье называется «продлёнка», что явно говорит о том, каковы шансы обвиняемого, что суд изменит меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Эти меры являются более адекватными, нежели трата денег на содержание з/к в СИЗО.
Также в случае с экономическими преступлениями (которыми сегодня зачастую являются недочеты в бизнесе), для потерпевшего нет никакого смысла, если обвиняемый сидит в тюрьме. От сидения в клетке денег на выплату ущерба потерпевшему не прибавится, и в бессмысленной ситуации оказываются оба – и потерпевший, и з/к. Возмещение ущерба по ст. 159 «мошенничество» зачастую судом во внимание не принимается, т.к. судится именно деяние, т.е., «душа». По нашему законодательство мошенничество – это тяжкая статья ( до 10 лет), а значит по ней невозможно освобождение в связи с примирением сторон и возмещение ущерба. Пока обвиняемый сидит в СИЗО и тратит деньги на адвокатов и на себя и свою семью, ничего не зарабатывая и ожидая срок, потерпевший точно также сидит и ждёт, когда его обидчик получит срок и хоть что-нибудь ему вернёт. Ситуация такова, что потерпевшему нужны деньги, а обвиняемый с радостью готов всё заплатить, лишь бы свалить из СИЗО, но нет, нельзя! Помимо этого, мошенничество, как и многие другие преступления, является преступлением «Публичного характера» (по статье 20 УПК РФ), т. е., примирение с потерпевшим не прекращает уголовного преследования и судебного разбирательства. К этому добавляется статус «тяжкой», в итоге, что плати, что не плати, человек получает срок, в связи с чем выплата денег становится бессмысленной и бесполезной.
Тот же самый механизм вполне применим и для 228 – намного толковее взыскивать деньги на благо общества, как в виде штрафов, так и в виде регулярных выплат (% с з/п), в противовес бесполезным скитаниям по зонам в течение 10 лет. Исходя из УК РФ, потерпевшей стороной в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков является общество (здоровье населения и нравственность общества). Тем выгоднее для общества экономические меры принуждения для осужденных по статье 228, хотя бы некоторой части глупцов, описанных выше. Безусловно, «монетизация» правосудия не должна превратиться в откуп, также как не могут быть данные меры применимы в виде наказания за насильственные преступления. В случае убийства лишение свободы является как раз адекватным наказанием. Отнятая жизнь должна быть выкуплена хотя бы N лет жизни, отнятых у убийцы, но самое главное – все зависит от конкретной личности преступника.
Довольно затратной, но важной переменой было бы развитие криминальной психологии для определения преступных наклонностей личности. Не стоит в этом деле пренебрегать и физиогномикой. Не секрет, что по лицу можно определить, перед нами нормальный человек или девиант. Даже исследования показали, что криминальная личность может быть определена компьютером. Говоря простым языком, мы нередко можем определить, кто перед нами – прирождённый преступник или оступившийся нормальный человек. В тюрьме по лицу человека зачастую можно с точностью определить, с какого он корпуса – «цивильного» спецблока или с «общака», где в глаза бросается биологическое вырожденчество. Сюда же было бы не лишним добавить и тест на интеллект, плюс должно учитываться наличие образования, социальная обустроенность и финансовая обеспеченность. Все это, должно, конечно, оцениваться в совокупности и выводить общий анализ личности, предоставляемый суду.
Также «новая политика» не должна превращаться во всепрощение. За многие статьи можно снизить сроки наказания для «первохода» до минимальных. Для многих, чьи преступления не связаны с тяжким причинением вреда и насилием, будет более чем достаточно даже отсидеть 1 год, с последующим выходом и предупреждением, что при повторном «заезде» наказание будет уже не менее ½ от максимума. А кто уже попал во второй раз – извините, вы были предупреждены на практике. Для криминальных личностей было бы неплохо принять что-то вроде «закона трёх ударов», когда при нарушении закона трёх раз подряд за короткое время (или рецидиве) следует не очередная «ходка», а действительно серьезное наказание и долгая изоляция от общества. В Америке, например, по этому закону дают пожизненное, что всё же чересчур жёстко и неразумно.
Что же касаемо изменений в Федеральной Системе Исполнения Наказаний, то я бы составил такой список, основываясь на опыте московского СИЗО:
1) Разрешение телефонной связи. Наличие в камере стационарного или мобильного телефона, которым можно пользоваться без или с небольшими ограничениями. Легализация связи не только укрепит социальные связи заключённого, но также ударит по коррупции во ФСИН;
2) Безоговорочное разрешение свиданий в нормальной обстановке без стекла и решеток. Для имеющих детей – создание специальных условий (игровые комнаты и площадки). Разрешение интимных свиданий с супругой мин. 1 раз в месяц в условиях, соответствующих длительным свиданиям в колонии, а именно предоставления отдельной комнаты с кроватью, кухней и душем в наличии. Все эти послабления заметно укрепят социальные связи зэка с вольным миром;
3) Разрешение на учёбу и на работу посредством наличия специальных комнат с компьютером либо наличие собственных ноутбуков. Легко доступные программы считывания истории нажатия клавиши официально будут следить за тем, что и кому пишет заключенный. За год отсидки в сизо я мог написать кандидатскую диссертацию, но вместо этого вынужден плевать в потолок. С компьютеризацией также возможно получение высшего образования дистанционно, что является только плюсом. Сейчас получение дистанционного образования возможно только в лагере и то, насколько мне известно, выбор вузов и специальностей крайне ограничен.
4) Постепенный переход к большему времяпрепровождению на открытом воздухе, развитие спортивных секций и кружков, пропаганда спорта и борьба с табакокурением. Стоит вспомнить недавние слова экс — замначальника ФСИН Коршунова, который будучи работником не давал свет обустройству спортзала в СИЗО «Лефортово» (за деньги заключённых!), а попав в то самое «Лефортово», но уже как заключенный, на своей шкуре понял, как он необходим.
Для наибольшей эффективности изменений необходима и более масштабная, тотальная реформа ФСИН – это создание новых СИЗО с отбором в них людей, не пропуская туда криминалитет. Особенность тюрем РФ состоит в крайнем дуализме тюремной жизни. Любое СИЗО, любая колония является либо «чёрной», либо «красной». «Чёрный ход» — власть криминала, власть блатных, «красный ход» — власть ФСИНовской администрации. Время от времени, в зависимости от начальства, происходит «перекрашивание», но ни тот, ни другой вид режима не являются адекватными. Последствия «красного режима» мы все видим на примере видео из Ярославля, статей о положении заключенного в Омской области: пытки, насилие, изнасилования и пр. Даже если пыток и нет, то «краснота» проявляется в куче глупых мелочей, чья цель – детальный контроль над заключённым. Для примера можно провести маразм московских «красных» СИЗО — «Кремлёвского централа» (99/1) и «Лефортово» (99/2) – после 6 утра нельзя лежать под одеялом, нельзя подходить к решетке и смотреть в окно, нельзя иметь никаких личных вещей, включая книги и газеты, при движении по СИЗО всегда держать руки за спиной и пр.[1] «Чёрный ход» минимизирует многие эти вещи, но порождает власть криминала и разгул АУЕ-субкультуры, «понятия» — свои правила поведения, которые человек должен исполнять. Человек, попавший сюда, сразу же записывается в «мужики» — часть и основу «чёрного хода», что накладывает и определенные обязательства в поведении перед «вышестоящим» (жизнь по понятиям, по «людскому», которое исходит из «воровского»). Нежелающие быть в системе из неё исключаются и переводятся в касту «красных» (шерсть, козлы). Т.е., чтобы не стать «шерстью», надо так или иначе быть частью, основой воровского мира и АУЕ-культуры[2]. Единственный выход — создание параллельных тюрем и лагерей для адекватных людей, не склонных к вливанию в криминальную среду тюрьмы, т. е., для «оступившихся», о чем высказывался кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Б. Титов. Опыт уже имеется – это то, как содержатся бывшие сотрудники, огражденные от блатного мира по понятным причинам. Также необходимо будет разрешить проблему с отдаленностью российских колоний, раскинутых по всей территории нашей Родины. Зачастую они находятся в глуши, до которой еще надо суметь добраться. На примере Москвы: ни в самой Москве, ни в Московской области нет колоний, потому осужденного москвича могут отправить куда угодно, где он вдали от всего цивилизованного мира и отсиживает срок. Тем самым наносится ещё один удар по социальным связям заключенного: мало получить свидание, супруге и др. Родственникам ещё предстоит до него добраться. И самым главным изменением, касающимся пост-тюремной жизни, должна стать отмена (или хотя бы минимализация) института судимости, фактически же клейма и волчьего билета. Так, например, за тяжкое преступление в виде хулиганства, (Ст. 213 ч. 2) которые совершили известные Мамаев и Кокорин – проще говоря, за драку, после освобождения человек ещё 8 (!) лет ждёт погашения судимости. Т. о., после уже отсиженного срока и пережитых испытаний человек ещё восемь лет является поражённым в правах, что обеспечивает проблемы, в первую очередь, с поиском работы. О какой ресоциализации может идти речь, если судимость и на воле продолжает мешать уже бывшему заключенному наладить новую жизнь.
При создании такой системы можно уже будет думать и о других изменениях. Например, работа во благо общества во время следствия с последующим зачётом рабочих дней по повышенному коэффициенту (условная уборка улиц и дворов). Описанное может вызвать у читателя негодование: что это за санаторий? Не буду предлагать читателю банальное «сам побудь в этой шкуре», замечу лишь то, что в тупом сидении и страдании просто нет никакого смысла. Поражение в правах и свободе для нормального человека уже является наказанием. Подобные же условия как раз и могут способствовать именно исправлению, а не отчуждению и изгнанию. Прогрессу преступника, а не деградации в прокуренной камере, лежа весь день на «шконке».
Мои мысли и предложения не гарантируют решение всех проблем, кроме того, все эти изменения и механизмы их внедрения и реформирования уголовной системы должны быть проработаны в детальном виде. Даже в Европе с её тюрьмами до сих пор сохраняются вопросы – что есть тюрьма? как исправить человека? возможно ли это? Точно ясно одно: современная пенитенциарная система является отсталой и деградировавшей, которая не поправляет тех, кто может и не возражает исправиться и не наказывает тех, кто заслуживает наказания. Если же ни одна из целей не достигается, то никакого смысла в её сегодняшнем виде нет.
Ввиду нахождения автора в местах лишения свободы, некоторые вещи подверглись цензуре. Полная версия будет опубликована в подробностях после освобождения.
[1] С рассказов тех, кто сидел там.
[2] Хотя, и не будучи «в шерсти» можно многое претерпеть от блатных и их лицемерной власти.
Илл. Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (1890)